
Орловские дали Пушкина
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!
Ф. И. Тютчев
Исполнилось твое пророческое слово
А. А. Фет

|
Пушкин ехал на юг. Подорожная, выписанная чиновнику 10 класса, едущему до Тифлиса и обратно, предписывала давать ему лошадей без задержки. Следом летели распоряжения местной полиции присматривать за каждым шагом путешествующего сочинителя. Май 1829 года шелестел березками, сыпал дождями.
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом.
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Действительно, долго ли? В конце мая ему исполнится тридцать. Позади - две ссылки и много утрат: пятеро героев 14 декабря повешены, десятки - в каторжных норах Сибири. Жаркие страсти южных поэм сменились холодным оцепенением толпы в "Борисе Годунове". Попытка устроить личное счастье не увенчалась успехом: на его предложение в доме Гончаровых ответили, что Наташа еще молода, идти под венец...
Царь, привязавший к его слову вериги двойной цензуры, видимо, ждет, что бойкое перо недавнего Михайловского затворника прославит графа Паскевича, поставленного на Кавказе вместо образованнейшего полководца, как будто поэт забыл собственные слова из "Кавказского пленника": "Смирись, Кавказ: идет Ермолов!"
Как будто Пушкин не писал брату в 1820 году из Кишинева, что Ермолов наполнил Кавказ "своим именем и благотворным гением"...
О человеке, которого К. Ф. Рылеев в своем послании назвал "гением северных дружин", думал в Михайловском. Писал брату на Кавказ, спрашивая о знаменитом генерале, герое Отечественной войны 1812 года.
Теперь он увидит опального полководца. Увидит, хотя для этого приходится делать двести верст лишних.
И коляска из Белева покатила на Орел...
Алексей Петрович Ермолов покинул Тифлис 3 мая. 1827 года. В простой рогожной кибитке отправился в Орел, где жили его родители - отец Петр Алексеевич и мать Мария Денисовна. Приезд знаменитого сына не мог быть радостным. Да и сам генерал в августе того же года писал своему бывшему сослуживцу П. А. Кикину, тоже уволенному в отставку:
"Я здоров, живу со стариком моим в деревне, нашел его очень слабым... Здесь я иностранец, вышедший на берега африканские. Как все пусто и дико! Люди с состоянием живут в столицах, с умеренным прячутся по деревням, удерживаемые падшими доходами, и наш город Орел кажется взятым штурмом ябедниками и подьячими. Не взирая на все сие, я строю каменный двухэтажный дом в городе".
Письмо было опубликовано в ноябрьском номере "Русской старины" 1872 года.
Только в 1960 году писатель Г. П. Шторм на страницах "Известий Академии наук СССР" дополнил это письмо новыми сведениями. Оказывается, едва Алексей Петрович перешагнул порог низенького родительского дома, едва навестил Лукьянчиково, единственную деревню отца, как сразу же попал под наблюдение местной полиции.
Подполковник Жемчужников аккуратно доносил в Петербург о поведении отрешенного от дел генерала.
Появление Ермолова в Орле не могло не вызвать у горожан живейшего интереса к нему. Из донесений Жемчужникова, приведенных Г. П. Штормом, можно узнать, что когда Алексей Петрович приехал из деревни в город вторично, чтобы назначить место для постройки флигеля, дивизионный командир с офицерами приготовил, было почесть генералу, но он отказался. Не принял Ермолов и самого подполковника корпуса жандармов Жемчужникова. Принял лишь купцов да коротких знакомых отца. В задуманном флигеле, подчеркивал подполковник, генерал решил поместить свою очень богатую библиотеку.
Тогда же, в августе 1827 года, в Лукьянчиково приезжал Д. В. Давыдов, знаменитый поэт-партизан, двоюродный брат Ермолова. Родовое имение Давыдовых находилось в Ливенском уезде Орловской губернии.
"Я был у брата Алексея, - писал Денис Васильевич своему старому приятелю А. А. Закревскому,- он не грустен, не сердит и как будто выбитый с винта, на коем он вертелся тридцать восемь лет славной службы! Кажется, однако, что начинает кой- как привыкать к безмятежной жизни, начал заниматься приведением в порядок записок своих... Там же строит он маленькую хижину для себя и для своей библиотеки. Как часто о тебе говорили и, конечно, нигде о тебе дружественнее не вспоминали, как в Тифлисе и в Лукьянчикове".
Таким образом, генерал был занят строительством двух домов - в городе и деревне.
А. Г. Кавтарадзе в книге "Генерал А. П. Ермолов", выпущенной Приокским издательством в 1977 году, к 200-летию славного земляка, привел слова: "При благоприятствовавшем мне постоянно счастии, в мои лета, и при моих силах, мог ли я ожидать, что буду жить в праздности, в глуши деревни престарелого отца моего".
Горькие слова перекликаются с донесением Жемчужникова 1828 года "Генерал Ермолов живет уединенно, но иногда посещает театр, всегда в черном фраке и без орденов; так он был на балу у губернатора 31 декабря, что дало повод различным толкам; иные его осуждают, а многие и это приписывают величию его духа. Мрачный его вид, изобличающий душевное беспокойство, явно противоречит хладнокровному тону, с коим он рассказывает приятности своей настоящей жизни, будто давно им желаемой"...
На некоторых моментах донесения, опубликованного Штормом, следует остановиться. Поскольку в Орле тогда был театр С. М. Каменского, то Ермолов мог бывать именно там. Допустима возможность встречи двух генералов: оба сражались в молодости под Варшавой под командой А. В. Суворова. Известно, что потом, когда Ермолов из Орла переехал в Москву, то прослыл там большим поклонником сценического искусства. Не мог он и в Орле не заинтересоваться игрой актеров.
Правда, дела у С. М. Каменского в это время уже пошли под уклон. Деревни одна за другой уплыли из рук. Даже с Сабуровом пришлось расстаться. Одна Звягинка оставалась. Темнели и подгнивали колонны городского дома. Слуги и музыканты ходили в лохмотьях. Но занавес продолжал взвиваться. Граф в генеральском мундире, при всех орденах по-прежнему строго следил за игрой актеров. Афиши предупреждали: "Всякие аплодисменты строжайше возбраняются и могут совершаться лишь по сигналу его сиятельства, владельца театра, или его превосходительства, господина начальника губернии"...
К осени 1828 года дом в деревне был построен. Ермолов поселился в нем с сыновьями Виктором, Клавдием и Севером. Написал бывшему своему адъютанту Н. В. Шимановскому, приглашая его в гости. Обещал вместе с ним побывать в Орле, где гость может "победить какую-нибудь красавицу".
Письмо, опубликованное в третьей книге "Русского архива" за 1906 год, хотелось бы дополнить донесением наблюдательного подполковника, но кладезь Жемчужникова иссяк. Что случилось? Шторм выразил надежду, что донесения, им не обнаруженные, еще ждут своего часа в одном из архивов. А поскольку они еще не разысканы, задержим внимание на личности подполковника.
Михаил Николаевич Жемчужников в Орел приехал из Елецкой деревни Павловки, где занимался хозяйством после жарких баталий 1812 года. От полного забвения его спасли дети Алексей, Александр и Владимир, создавшие вместе с двоюродным братом А. К. Толстым бессмертного "Козьму Пруткова", и Лев - художник, автор книги "Мои воспоминания из прошлого", впервые полностью изданной Ленинградским отделением "Искусство" в 1971 году.
Александр Жемчужников в воспоминаниях "Подымовское дело", опубликованных в "Русском архиве" 1861 года, рассказал, что они жили с отцом недалеко от приходского училища. Упомянут секретарь консистории С. А. Попов, о котором заботился генерал Ермолов. Из других источников мы узнаем, что в 1830 году М. Н. Жемчужников уже воевал в Польше.
Был ли он в Орле в 1829 году? Если был, то где бесценные донесения той поры?
Их нет.
Зато, если верить публикации
Б. Ермака и Б. Александрова в "Литературном альманахе", то в Орле в мае 1829 года произошло удивительное событие. Оказывается, в то время, когда поэт ехал по нашему краю, во всех трех частях города полиция сбилась с ног, разыскивая Пушкина, чтобы объявить ему сенатское решение "обязать подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику под опасением строгого по законам взыскания". Решение было принято после долгого разбирательства по поводу стихотворения "Андрей Шенье", которое кандидат Московского университета А. Леопольдов переписал с пометкой "по поводу 14 дек.".
4 июня, почти через месяц после отъезда поэта из Орла, пристав 3-й части доносил, что "чиновника Александра Пушкина... по тщательному моему и квартальных надзирателей розыскам в подведомственной мне части ныне не оказалось".
Искали и не нашли. Это дало основание кое-кому предположить, что Пушкин вообще приехал к Ермолову прямо в Лукьянчиково, как Денис Давыдов.
Оригинальное предположение полностью противоречит свидетельству самого поэта.
"... Из Москвы,- читаем в "Путешествии в Арзрум",- поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних, зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал".
Дом отца и ныне можно увидеть на берегу Оки за городским парком. На стене- мемориальная доска. Могла бы там состояться встреча генерала и поэта? Приведенные строки ясно говорят, что Алексей Петрович и Петр Алексеевич жили в разных домах. Полководец бывал у отца, значит, ходил к нему. Если бы они жили под одной крышей в Орле, то зачем тогда "бывать"? Да и вряд ли можно было поместить под одну крышу, с отцом генерала с сыновьями и с богатой библиотекой. Кроме того, в Орле, часто горевшем, опасно было держать книги в деревянном доме. Понятна забота Ермолова о доме каменном, двухэтажном. Вот там и должны были они встретиться.
Этот дом, как утверждает книга "Здесь жил Пушкин", изданная в Ленинграде в 1963 году, стоял на Борисоглебской улице (ныне ул. Салтыкова-Щедрина), на берегу Орлика. Сторонники этого адреса ссылались на свидетельство краеведа В. Н. Лясковского, получившего ценные сведения от Н. П. Киреевской, хорошо знавшей Пушкина...
Газета "Орловский край" 16 декабря 1916 года утверждала, что по дороге на Орел поэт заехал в Большую Чернь к Плещеевым и там прогостил несколько дней, о чем сохранилось много семейных преданий. С Петром Александровичем, хозяином имения, Пушкин мог быть знаком по Петербургу, поскольку тот учился в Благородном пансионе вместе с братом поэта Львом. Хорошо знал поэт по "Арзамасу" и отца хозяина, композитора и драматурга Александра Алексеевича Плещеева.
К числу орловских преданий относят и то, что было записано от старожила Малоархангельска в 1882 году, а в 1890 году опубликовано в "Русской старине".
Пушкин приехал в Малоархангельск поздно вечером и, сильно утомленный дорогою, заночевал на постоялом дворе. Власти, узнав о его приезде, "провели ночь тревожно, в ожидании, быть может, ревизии". Рано утром чиновники во главе с городничим, в парадных мундирах, при орунах, "сочли своей обязанностью, по долгу: службы и присяги, явиться на постоялый двор и представиться А. С. Пушкину, как начальству: не будет ли каких -либо приказаний".
Они вошли в переднюю и представились: вначале слуге. Тот сказал, что "барин его почивает, а когда проснется - неизвестно, должно быть, нескоро, потому что сильно утомлен дорогою". Чиновники, сидя в передней, стали ждать.
"Услышав за стеной, в некотором роде, "шепот, робкое дыхание", поэт обратился за объяснениями к своему человеку, а тот доложил ему все подробно.
- Гони их в шею дураков!- закричал, неизвестно с чего рассердившийся Пушкин: своему человеку, к неописанному удивлению и еще большому ужасу малоархангельских властей, явно расслышавших грозный окрик и, так сказать, во исполнение его, мгновенно исчезнувших с постоялого двора.
Но когда первый страх прошел и когда Пушкин, напившись чаю, уехал из города без всяких последствий, малоархангельские власти не знали, куда деваться от радости и поздравляли друг друга, если с не вполне благосклонным приемом их Пушкиным, то с вполне благополучными проводами столь знаменитой и начальственной особы".
Писатель-орловец А. В. Германо, рассказав об этом в статье "Пушкин на Орловшине", писал: "Если действительно подобное происшествие было в Малоархангельске с Пушкиным, то возникает вопрос - не явился ли этот случай темой, подсказанной им Н. В. Гоголю для будущей комедии "Ревизор".
В наши дни в память об этом предании в Малоархангельске был открыт памятник великому поэту - дар родному городу местного учителя, талантливого скульптора Ивана Алексеевича Семеновского. Чуть откинув голову, приподняв цилиндр, поэт как бы замер в удивительном мгновении, созвучном его словам:
Здравствуй, племя Младое, незнакомое!
Наверное, таким он был восторженно-радостным, когда входил в дом А. П. Ермолова 5 мая 1829 года.

|
"Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе".
Поэт заметил, что полководец, "по - видимому нетерпеливо сносит свое бездействие". О Паскевиче говорил Ермолов язвительно, называя его, графа Эриванского, графом Ерихонским. Военные успехи своего преемника Алексей Петрович насмешливо сравнивал с победами библейского Навина, "перед которым стены падали от трубного звука". Устами генерала Ермолова Пушкин развенчивал того, кого он должен был прославлять, как того ожидал царь.
"Пускай нападет он,- говорил Ермолов о Паскевиче,- на пашу, не умного, не искусного, но только упрямого, например, на пашу, начальствовавшего в Шумле,- и Паскевич пропал".
Пропал Паскевич в глазах - читателей вместе с военной политикой душителя декабристов. Гибель уготовил всесильный автор "Путешествия в Арзрум". Встреча в Орле имеет глубокий смысл в понимании идеи очерка. Если бы поэт "своими словами развенчал военного, удар бы не был таким значительным. Он же избрал средство более надежное: о Паскевиче говорил самый в ту пору авторитетный военный специалист.
"Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки",- читаем у Пушкина.
Загадочная строка. Почему к такому выводу пришел поэт? Уж не показывал ли Ермолов кое-что из написанного? Ведь о записках уже в августе 1827 года писал Д. В. Давыдов. За два года энергичный генерал мог бы многое написать.
От записок Пушкин естественно переходит к главному труду Н. М. Карамзина: "Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу".
Затем разговор переключился на записки Курбского, от них, что вполне логично, перешел к современным порядкам, к засилью немцев в армии.
"О правительстве и политике не было ни слова",- эта строка явно рассчитана на цензуру. От разговора о Курбском, осудившем казни Ивана Грозного, легко было перейти к словам о расправе над декабристами. Засилье немцев было частью политики царского правительства. Грибоедов, упомянутый только в том плане, что от его стихов, по словам Ермолова, "скулы болят", не мог не вызвать рассуждений о его судьбе.
Описание свидания с Ермоловым, как известно, в первой публикации "Путешествия в Арзрум" было обозначено многоточием. Теперь мы, располагая находками Г. П. Шторма в Центральном архиве древних актов, в частности, записью, сделанной под диктовку Ермолова и заверенной им, можем утверждать, что Пушкин был у генерала три раза, что первые слова, которые он сказал, войдя в дом полководца, это: "Мне стыдно бы было б, если б я по дороге в Кавказскую армию не повидался с Ермоловым". Когда же речь зашла о Карамзине, то Пушкин, по свидетельству Ермолова, заявил: "Меня удивляет его добродушие и простосердечие: говоря о зверствах Иоанна Грозного, он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей".
Шторм привел слова Ермолова из письма Д. В. Давыдова к П. В. Вяземскому: "Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения".
Пушкин Ермолову читал свои стихи! К этому выводу пришел Г. П. Шторм, исследуя архивные документы. На основании неопубликованной редакции "Записок" Дениса Давыдова исследователь сделал еще один вывод: поэт жил в нашем городе два дня.
Встреча с полководцем была сильным впечатлением Пушкина. Из Тифлиса он написал Ф. И. Толстому, что Ермолов "был до крайности мил". Сохранился черновик письма 1833 года: Пушкин писал Ермолову, утверждал, что его слава принадлежит России, просил чести быть издателем его записок или историком. Письмо в наши дни стало эпиграфом к историческому роману Олега Михайлова "Генерал Ермолов", выпущенному Военным издательством в 1983 году.
В 1831 году А. П. Ермолов переехал из Орла в Москву. Жил на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре, в скромном деревянном доме. Однажды у героя Кавказа побывал в гостях П. И. Бартенев, будущий издатель "Русского архива". Гость заметил Алексею Петровичу, что его беседа в Орле с Пушкиным, конечно, была занимательна.
- Очень, очень и очень!- ответил "с одушевлением" Ермолов.
И еще добавил, что принимал поэта "со всем должным ему уважением".
Тогда же полководец, по словам Бартенева, сказал ставшую крылатой фразу, что "поэты суть гордости нации".
Человек, которому обязан Орел приездом Пушкина, скончался на Пречистенке 11 апреля 1861 года. Гроб установили на артиллерийский лафет и в сопровождении гренадеров Несвижского полка повезли в Орел. 15 апреля "Орловские губернские ведомости" поместили некролог, вспомнив время, когда по словам М. Ю. Лермонтова:
...И испытанный трудами
Бури боевой.
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
16 апреля гроб с телом генерала прибыл в Орел. По желанию жителей был установлен в Крестовоздвиженской церкви. 18 апреля шел дождь со снегом, но люди толпами шли и шли проститься с полководцем. Похоронили его на Троицком кладбище у церкви, рядом с отцом, умершим в 1832 году. Чугунная граната со вставленной под круглым стеклянным шаром лампадой была ему первым памятником. Славянскими буквами было написано бронзой на граните: "Служащие на Гунибе кавказские солдаты". Ныне полководец смотрит с барельефного портрета таким, каким его увидел А. С. Пушкин.
"При виде великого героя русского, мужа силы и мудрости воинской, грозы Кавказа, ужаса врагов России, что скажу вам, печальные слушатели, немощный в слове, скудный в достойной хвале великому? - вопрошал на похоронах большой мастер красного слова, преподаватель Орловского Бахтина кадетского корпуса Е. А. Остромысленский и продолжал.- Где, где не летал ты, наш орел северный, в каких дремучих лесах, на горах и в ущельях не разгонял и не поражал ты стаи диких хищных птиц; все - таки воротился ты в свое гнездо Орловское,- все-таки прилетел домой, к могиле отца своего и матери". На скромном холмике у церковной стены теперь часто можно увидеть цветы. Вспыхнули однажды алым пламенем цветы латышской поэтессы Мирдзы Кемпе. Свое восхищение северным орлом она передала в стихах, воспев его подвиги и нетерпение поэта, спешившего в Орел на встречу с полководцем...
Цветы журналиста В. И. Воробьева - его статьи о Ермолове, составленная им библиография, в которую он собрал, наверное, все, что появилось в печати о славном земляке.
...До войны жила в Орле женщина, которая с особым пристрастием собирала все, что известно о пребывании Пушкина в нашем крае.
- Знаете?- говорила она взволнованно работникам краеведческого музея.- В альбом моей бабушки, Елизаветы Николаевны Ушаковой, Александр Сергеевич написал стихи:
Вы сами знаете давно.
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
Александре Николаевне Ивановой было за семьдесят, но с молодым чувством продолжала говорить о Пушкине, о его стихах, написанных в январе далекого 1829 года...
Как нам известно из примечаний к стихам поэта, был у Е. Н. Ушаковой еще один альбом: там Пушкин оставил множество рисунков, записей и даже поместил список женщин, которыми увлекался.
Особое место среди них принадлежит той, которая вызвала к жизни:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
"Малый энциклопедический словарь" Брокгауза и Ефрона 1907 года назвал Анну Петровну Керн, во втором браке Маркову - Виноградскую, писательницей, привел годы жизни (1800-1880) и перечислил публикации в "Библиотеке для чтения" (1859), "Русском архиве" (1884), "Русской старине" (1870) и других журналах, впоследствии собранные в одну книгу.
В центре Орла на одном из домов прошлого века далеко видна женская головка. Говорят, в ней увековечена Анна Керн, мемуары которой очень растрогали и возвысили душу архитектора. С высоты второго этажа она смотрит на юг, ждет возвращения поэта с Кавказа в город, где...

|
"Я родилась в Орле, в доме моего деда Ивана Петровича Вульфа, который там был губернатором... Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11-го февраля 1800 года"...
Эти строки из книги "Воспоминания. Дневники. Переписка" А. П. Керн (Марковой-Виноградской), изданной в Москве в 1974 году к 150-летию А. С. Пушкина.
Свет романтической славы чудного мгновения играет в окнах бывшего губернаторского дома. Аллеи парка хранят память о тропинках, по которым проходила счастливая дочь губернатора с крохотной девочкой на руках.
Первая весна Анны Петровны Керн была орловской весной. Небо звенело перелетными птицами. Воды Оки очищались ото льда. В липах шумел ветер. В губернском доме было весело. Перед назначением в Орел И. П. Вульф и его жена Анна Федоровна, урожденная Муравьева, сыграли две свадьбы: выдали дочь Екатерину за Петра Марковича Полторацкого и женили сына Николая на Прасковье Александровне Вындольской, ставшей впоследствии (во втором замужестве) Осиповой, известной хозяйкой Тригорского.
"После этих свадеб,- читаем у А. П. Керн,- дедушка получил место губернатора в Орле и поехал туда с бабушкой и двумя парами новобрачных".
В конце 1799 года у Николая Вульфа родилась дочь Анна. Дочь Петра Полторацкого тоже назвали Анной. Обе Анны, когда вышли из младенческого возраста, крепко сдружились и обедали за маленьким столиком прежде взрослых. Дедушкина страсть - птицы. Канареек было так много, что младшая внучка потребовала одну из них изжарить. Ей подали на тарелке воробья. Но это произошло уже не в Орле, а в тверском селе Бернове. Няня Пелагея Васильевна кормила будущую Анну Керн сливками и усыпляла сказками. Иногда приезжал близкий родственник М. Н. Муравьев с сыновьями - Никитой и Александром, будущими декабристами.
"У бабушки и у дедушки я прожила с родителями до трех лет,- вспоминала А. П. Керн, и потом мы поехали в Лубны, где отец мой строил второй дом на чрезвычайно живописном месте"...
Петр Полторацкий был мастер шутить. Самую злую шутку он сыграл с собственной дочерью. Заметив, что за нею ухаживает командир дивизии Е. Ф. Керн, пришел в восторг и загорелся желанием породниться с генералом, героем войны 1812 года. Свадьбу сыграли 8 января 1817 года: невесте еще не исполнилось семнадцать, жениху шел пятьдесят второй год.
Потянулась мучительно-тоскливая жизнь генеральши.
Ей было девятнадцать лет, когда она приехала в Петербург и на вечере у Олениных впервые увидела А. С. Пушкина. Было весело. Разгадывались шарады. Сидя на стуле среди зала, И. А. Крылов читал:
Осел был самых честных правил...
Интересно, что эта строка из басни стала начальной в романе "Евгений Онегин": только "осла" поэт заменил "дядей":
Мой дядя самых честных правил...
"В чаду такого очарования,- вспоминала А. П. Керн,- мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить".
В дальнейшей игре ей выпала роль Клеопатры. Она держала корзину цветов. Пушкин посмотрел на цветы и спросил ее, указывая на Александра Полторацкого:
- А роль змеи, как видно, предназначается этому господину?
Она нашла это дерзким и, не ответив, ушла.
Потом все сели за маленькие столики ужинать. Пушкин уселся близко и попытался обратить на себя внимание словами: "Можно ли быть такой хорошенькой?" Потом между ним и Полторацким завязался шутливый разговор, "кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай". Поэт заявил, что в аду много будет хорошеньких и с ними можно играть в шарады. Попросил Полторацкого спросить у мадам Керн, хотела ли она попасть в ад. "Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю". Пушкин ответил, что он раздумал и в ад не хочет, хотя там будет много хорошеньких женщин. Ужин подошел к концу.
"Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж,- вспоминала Анна Петровна,- Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами".
Она привела первую строку стихотворения о чудном мгновении и целую сцену появления Татьяны, жены генерала, из "Евгения Онегина", угадав в пушкинской героине себя...
Не виделись они шесть лет. За это время она с жадностью прочла "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Братьев-разбойников". Жила в Полтавской губернии. Получала письма от Анны Вульф из Тригорского. Однажды прочла: "Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна". Потом в ее письме появилась приписка из Байрона рукою Пушкина: "Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим". Поэт писал по-французски. Написал он ей через соседа-помещика Аркадия Родзянко, затем получил шуточное письмо от него со вставками А. П. Керн.
В июне 1825 года они увиделись в Тригорском.
"Вот как это было,- писала А. П. Керн.- Мы сидели за обедом и смеялись... Как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками... Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен,- и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту".
Спустя многие годы ей помнилось, что "он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его". И еще "Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество".
То, собрав всех в кружок, он увлекательно рассказывал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров, то однажды явился в Тригорское с большой черной книгой и стал читать "Цыган". Как он читал!
"Впервые мы слышали эту чудную поэму,- писала А. П. Керн,- и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении, как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих Цыганах:
И голос шуму вод подобный.
Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным"...
В Михайловском они не вошли в дом, а сразу отправились в сад. Корни старых деревьев вились по дорожкам, что заставило Анну Керн спотыкаться. Пушкин подал ей руку и "побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться". И все вспоминал встречу у Олениных. На другой день она уезжала в Ригу. Он пришел утром и принес ей экземпляр главы "Евгения Онегина". Между страницами она обнаружила вчетверо сложенный почтовый лист бумаги. Развернула и прочла:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...
"Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять"...
Бесценное стихотворение она сообщила А. А. Дельвигу и тот его опубликовал в "Северных цветах" 1827 года. Листок долго берегла, потом отдала М. И. Глинке: он написал романс и, исполнив его, привел в восторг Анну Петровну.
Письма - страстные, веселые, полные огненного чувства, охватившего душу поэта, она хранила при себе долго. Лишь в 1870 году решила расстаться. В 1879 году они были опубликованы в "Русской старине".
Он писал ей о глубоком и сильном чувстве своем, умолял писать ему, любить, звал в Михайловское, обещал быть в понедельник веселым, во вторник-восторженным, в среду - нежным, в четверг - игривым и всю неделю - у ее ног. Читал том Байрона, полученный от нее, и тяготился, как никогда, своим изгнанием.
Она радовалась его возвращению из ссылки, была близка сестре и матери поэта. Встретившись в Петербурге, они вспомнили Тригорское. Он подарил ей "Цыган" с надписью: "Ее превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя". Через несколько дней пришел и, присев на маленькую скамеечку, написал для нее:
Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой...
Анна Петровна запомнила, как гордилась своим сыном Надежда Осиповна, как радовалась, когда он оставался обедать у родителей своих, печеной картошкой заманивала... Видела радость свидания Пушкина с Дельвигом: наглядеться не могли друг на друга.
В 1832 году, когда умерла мать Анны Петровны, Пушкин приехал и "употребил все свое красноречие", чтобы утешить ту, которую обессмертил в стихах. Она вспоминала: "Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: "Как тебя зовут?"-отвечала: "Воля!"-и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра. Пусть этими словами окончатся мои воспоминания о великом поэте".
Но это слово не оказалось последним. Продолжала она вспоминать о нем и в других мемуарах. Незадолго до смерти узнала о том, что в Москве собираются открыть памятник поэту. Жила она в скромно обставленной комнате на Тверской-Ямской. Там-то и посетил нашу землячку артист О. А. Правдин, воспоминание которого привел Б. Модзалевский в очерке "Анна Петровна Керн", опубликованном в третьем томе роскошного издания А. С. Пушкина 1909 года под редакцией С. А. Венгерова.
Есть предание о встрече ее гроба с памятником поэта, что позволило Павлу Антокольскому воспеть в стихотворении "прах смертной старухи" и "бессмертную бронзу".
Правдин же рассказал следующее: "Дело было так... Анна Петровна сильно захворала, так что за ней усилили уход и оберегали от всего, что могло бы ее встревожить. Это было, кажется, в мае. Был очень жаркий день, все окна были настежь. Я шел к Виноградским. Дойдя до их дома, я был поражен необычайно-шумливой толпой, собравшейся на Тверской-Ямской, как раз перед окнами дома, в котором жили Виноградские... 16 крепких битюгов, запряженных по четыре в ряд, цугом, везли какую-то колесную платформу, на которой была помещена громадная, необычайной величины, гранитная глыба, которая застряла и не двигалась. Это глыба была гранитный пьедестал памятника Пушкину. Наконец, среди шума и гама, удалось-таки сдвинуть колесницу, и она направилась к Страстному. Я поднялся к Виноградским. Оказалось, что скандал на улице начался часов в 9-10 утра, все жильцы всполошились, предполагая, что в доме пожар. Больная также встревожилась, стала расспрашивать и когда, после настойчивых ее требований (ее боялись волновать), ей сказали, в чем дело, она успокоилась, облегченно вздохнула и сказала с блаженной улыбкой: "А наконец-то! Ну, слава богу, давно пора!.." До самой смерти Анна Петровна интересовалась ходом постройки и охотно слушала все, что ей об этом рассказывали". (С. 605-606)...
Она и сама силой любящего сердца, образованного ума и литературного дарования воздвигла ему памятник в русской мемуарной литературе.
На бывшей Тверской, ныне Калининской, земле, у села Старая Путня - ее могила. Зимой 1942 года там был фронт. Во время затишья между боями к ограде пришли трое - техники бомбардировочного полка.
- За этой оградой покоится Анна Петровна,- взволнованно сказал своим товарищам Иван Булгаков.- Это она вдохновила Пушкина на лучшее стихотворение о любви.
И добавил с гордостью:
- В нашем Орле родилась.
После войны Иван Никифорович еще раз приехал на могилу А. П. Керн. Потом - еще и еще. Трудно объяснимая сила вновь и вновь приводит его, заслуженного старожила Орла, кавалера боевых и трудовых орденов, к тому месту, где на камне - пушкинские строки о мгновении чудном и вечном.
А всему начало - старинный пушкинский том под редакцией С. А. Венгерова, из которого однажды в детстве узнал И. Н. Булгаков об удивительной женщине, ставшей гением чистой красоты.
Каждый раз, когда я прохожу мимо дома, где она родилась, душу охватывает волнение...
Знал ли тогда, в мае 1829 года, великий поэт, что лишние версты привели его город, где она увидела свет? Знал ли, что ехал по земле своих предков и множества хороших знакомых?

|
На орловских страницах "Бориса Годунова" первым обозначен Севск, где самозванец расспрашивает пленного о делах в Москве, а затем в лесу рассуждает о неудачном сражении, о храбрости Курбского:
Я видел, как сегодня в гущу боя
Он врезался; тьмы сабель молодца,
Что зыбкие колосья, облепили...
Затем упомянуты Кромы. Царь говорит Басманову:
Он побежден, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались.
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает.
Что делают меж тем герои наши?
Стоят у Кром, где кучка казаков
Смеются им из-под гнилой ограды.
В одиннадцатом томе "История государства Российского" Н. М. Карамзина; живо описана битва, в которой "Лжедмитий сел на борзого, карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиною", а затем вынужден был бежать в Севск, оттуда - в Рыльск и Путивль. Рассказал Карамзин о расправах царских воевод в Добрыничах и о том, как отважный Корела с казаками засел в Кромах и с помощью жителей устоял перед многочисленным войском Федора Шереметьева.
Добрая половина книги Г. М. Пясецкого "Историческое описание города Кром Орловской губернии" (Кромы, 1890) могла бы послужить комментарием к пушкинским словам о кучке казаков у гнилой ограды.
Было время, когда, по словам Пясецкого, под Кромами "суждено было исполниться той великой драме, от которой едва не померкла счастливая звезда нашего отечества".
Царская армия, вооруженная пушками, появилась на правом берегу реки Кромы 14 марта 1605 года. Кромчане ее встретили со смехом. Деревянные стены города были сожжены, так они решили укрыться за земляным валом. Храбрый и хитрый Корела велел копать пещеры, проводить подземные пути со множеством переходов и выходов. Иностранцам, бывшим на царской службе, "осада города Кром представлялась дремучим, темным лесом". Пошли годуновцы к валу, под меткие пули казаков попали. Полезли в норы - еще хуже: защитники крепости стали расстреливать солдат по одному, как гусей. Так ничего и не вышло. Простояли месяц, другой... А в мае осада кончилась дружными криками во славу Димитрия Ивановича. Смутное время продолжалось.
Под Кромами погиб Афанасий Иванович Пушкин, один из предков великого поэта. Другой предок сложил голову в схватке с поляками в Москве в 1611 году, третий командовал отрядом у Д. М. Пожарского в битве под Орлом в 1615 году.
Пушкин писал в "Моей родословной":
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.
Петр Михайлович Пушкин был достойным продолжателем рода, уходящего корнями в глубину русской истории, восходящего к легендарному Ратше, к Гавриле Олексичу - славному витязю Александра Невского. В 1648-1656 годах он служил воеводой во Мценске, Козлове и Олонце.
Наш край для него был родным. На реке Оке при впадении в нее ручья Бобрика находилось Тагино - вотчина Петра Михайловича. На высоком берегу стоял дубовый острог с двумя башнями, окруженный глубоким рвом. В остроге находились две железные пушки, а к ним два пуда зелья и 18 ядер.
Из очерка академика С. Б. Веселовского "Род и предки А. С. Пушкина в истории" ("Новый мир", 1969, № 1-2) можно узнать, что после смерти Петра Михайловича Тагино перешло в руки Марфы Федоровны, вдовы его сына Михаила. Вдова, приняв вотчину, попыталась увеличить оброк, но мужики ей оказали неповиновение. Пришлось обращаться за помощью к орловскому воеводе Тургеневу, а там жаловаться в Москву. Неуемная вдова довела бы дело до кровопролития, не вмешайся Никита Борисович Пушкин, внук Ивана Михайловича, убитого в 1611 году. Он подал в Разряд челобитную, попросил не наказывать мужиков и убедил, что Тагино должно принадлежать ему, ближайшему родственнику Петра Михайловича. Вдова уехала, получив три тысячи рублей и имущество мужа. Никита Борисович приехал в Тагино и принял под свою руку и острог с пушками, и 230 дворов крестьянских, и хозяйство вотчинника, в котором было 169 лошадей, 35 жеребят, 26 сох, 27 кос, 46 серпов...
В пору проезда А. С. Пушкина через Орел острога, разумеется, не было, а Тагино принадлежало его далеким родственникам Чернышевым.
С Захаром Григорьевичем Чернышевым (1796-1862), внуком фельдмаршала графа И. Г. Чернышева, поэт встретился в том же 1829 году на Кавказе. Один из современников вспоминал: когда Пушкин в палатке своего брата Льва с воодушевлением читал и переводил Шекспира, вошел Захар Чернышев, знавший английский язык, как родной, и признал чтение неправильным, а перевод похвалил.
На плечах нашего земляка в эту пору уже не было эполет ротмистра лейб-гвардии Гусарского полка. После разгрома восстания декабристов он, член Северного общества, был сослан в Сибирь, затем определен в рядовые Нижегородского драгунского полка.
Пушкина, наверное, взволновала встреча с родственником. Ведь он через его сестру Александру (1804-1832), ставшую женой декабриста Н. М. Муравьева, отправил в Читу свое знаменитое:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Передавая послание, Пушкин горячо говорил о своих друзьях, сосланных в каторжные норы Сибири. Восхищенный подвигом их жен, он так крепко сжал руку Александре Григорьевне, что она не могла продолжать письмо, которое писала перед его приходом.
Отвезла она и стихотворение, адресованное лицейскому другу поэта И. И. Пущину, который потом вспоминал:
"В самый день моего приезда в Читу вызывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Псков, 13-го декабря 1826
Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый раз посетил его в изгнанье. Увы, я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга...
Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла наконец исполнить порученное поэтом" (И. И. Пущин. "Записки о Пушкине. Письма". М., 1979, с. 80).
Все, кто знал А. Г. Муравьеву, отзывались о ней с глубочайшим уважением. В 1832 году она простудилась и слегла. Перед смертью попросила куклу дочери и поцеловала вместо нее: не захотела будить четырехлетнюю Нонушку...
Многие годы над ее вечным покоем горела лампада, зажженная декабристами, называвшими ее ангелом-хранителем.
Скончался в Сибири и ее муж, названный в десятой главе "Евгения Онегина" "беспокойным Никитой". Арестовали его в селе Тагино...
По дороге на Орел Пушкин мог посетить Тимофеевское (ныне Фандеево) - родное гнездо Кривцовых. Поэт хорошо знал Николая Ивановича Кривцова. В 1818 году, провожая его в Англию, Пушкин подарил ему "Орлеанскую девственницу" Вольтера, надписав на книге "Другу от друга". Тогда же были написаны и стихи:
Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию харит?
Прости, эпикуреец мой!
Останься век, каков ты ныне.
Лети во мрачный Альбион!
Да сохранит тебя в чужбине
Христос и верный Купидон!
Неси в чужой предел пената,
Но, помня прежни дни свои,
Люби недевственного брата,
Страдальца чувственной любви!
Несколько раньше поэт, обращаясь к другу, писал:
Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Кривцов был на восемь лет старше Пушкина. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, потерял ногу в бою. Поэт написал ему три письма. Последнее было послано из Москвы в 1831 году и содержало горечь откровенных признаний перед женитьбой: "Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было... Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию".
Сделав выписку из десятого тома Полного собрания сочинений А. С. Пушкина, изданного "Наукой" в 1962-1966 годах, мы обратимся к другим источникам, чтобы расширить круг спутников поэта.
Открываем книгу М. Гершензона "Декабрист Кривцов и его братья", изданную в Москве в 1914 году и находим в самом конце 265 страницы набранные мелко волнующие строки: "Смерть Пушкина была для меня очень чувствительна; мы были так давно знакомы, и он всегда был так добр ко мне, что эта потеря, помимо национального чувства, заставившего меня оплакивать смерть нашего единственного поэта во цвете лет, была для меня настоящей скорбью".
Писал А. И. Тургеневу Павел Иванович Кривцов. Как давно он познакомился с Пушкиным? Может, в 1817 году, когда приехал в столицу по вызову старшего брата Николая и поселился с ним в одном доме? Вместе с ним был и Сергей, будущий декабрист. Братья в ожидании отъезда на учение в Швейцарию задержались в Петербурге на все лето. Осматривали достопримечательности города, ходили в Публичную библиотеку, ждали, когда Николай Иванович скажет, что пора ехать. В эту пору лицейская жизнь Пушкина кончилась, и он познакомился с Н. И. Кривцовым. Вполне возможно, что поэта видели оба его младших брата...
Орловский вице-губернатор Василий Николаевич Семенов (1801 -1863) встречался с Пушкиным и в юные, и в зрелые годы. Он на три года позже кончил лицей. Сводили их в один класс занятия по музыке. Когда Семенов был цензором, то ему приходилось подписывать к печати и произведения лицейского товарища. Они встречались. Однажды Пушкин пришел на обед к Смирдину и увидел Василия Николаевича сидящим между Гречем и Булгариным. Не удержался и воскликнул:
- Семенов, да ты, как Христос на Голгофе!
Сравнение с Христом, распятым между двумя разбойниками, вызвало смех.
Весной 1836 года Семенов ушел из цензоров. Литераторы дали обед. На ответном обеде у Василия Николаевича Александр Сергеевич много острил и смеялся.
Болью отозвалась в душе В. Н. Семенова весть о дуэли. Он поспешил к дому поэта...
В воспоминаниях нашего земляка В. П. Бурнашева (1812-1888), автора занимательных книг для народа, нас глубоко волнуют страницы о Пушкине. Незадолго до смерти поэт, увидев сильное освещение в доме Н. Н. Греча, заехал к нему и попал на именины хозяйки. Не отказался от бокала шампанского и попросил юного Колю, сына Греча, прочитать отрывок из "Бориса Годунова". Мальчик восхитил мастерским чтением. Пушкин предсказывал ему артистическое будущее. Надевая медвежью шубу и меховые сапоги, пожаловался: "Все словно бьет лихорадка. Все как-то везде холодно и не могу согреться, а порой вдруг невыносимо жарко. Нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг"...
Коля пожелал встретиться с поэтом "в цветущих долинах" юга.
- Гора с горой не сходится,- грустно улыбнулся Пушкин,- а человек с человеком сойдется.
Встреча оказалась последней. Коля с того вечера схватил простуду, слег и умер. Послали сказать Пушкину. Слуга ответил, что его барин все дни "словно в каком-то расстройстве", то уедет куда-то, то "свищет несколько часов сряду, кусает ногти, бегает по комнатам".
В день похорон Коли он дрался на дуэли... Придя на Мойку, Бурнашев вошел в полутемную комнату и увидел лицо поэта, озаренное свечами.
"Великолепные курчавые темные волосы,- вспоминал он,- были разметаны по атласной подушке, а густые бакенбарды окаймляли впалые щеки до подбородка, выступая из-под высоко завязанного черного широкого галстука. На Пушкине был любимый темно-коричневый сюртук, в котором я видел его в последний раз, при жизни его, в ноябре месяце 1836 года, на одном из Воейковских вечеров".
Бурнашеву показали стихотворение М. Ю. Лермонтова "На смерть поэта". Он списал его. Молодые люди с гневом говорили о Дантесе, считая, что его надо четвертовать...
В Орле весть о смерти поэта вызвала особенно горестное чувство у музыканта А. П. Есаулова. Андрей Петрович вспомнил, как он, терзаемый бедностью, умирал с голода, а к нему приехали А. С. Пушкин и С. А. Соболевский. Помогли деньгами и советом. В одном из писем П. В. Нащокину Александр Сергеевич кланялся Андрею Петровичу, просил прислать ему романс "Прощание", исправленный во втором издании.
В Орле Есаулов любил выходить вечером на берег Оки, играть на скрипке, а в кругу друзей - петь:
Бегут, меняясь, наши лета...
И:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать...
Петру Васильевичу Киреевскому, ставшемy с 1837 года жителем Киреевской слободки под Орлом, тяжело было перечитывать народные песни, подаренные ему Пущиным, и вспоминать, вспоминать... Ведь у Веневитиновых в Москве был свидетелем чтения поэтом "Бориса Годунова", вызвавшего всеобщий восторг. Его портрет набросал Пушкин в черновом варианте Полтавы". Поэт гостил у братьев Киреевских...
Юным лицеистом вспоминался поэт выпускнику Севской семинарии Александру Ивановичу Галичу (1783-1848). Галичу не было тридцати, когда он, восторженный поклонник философии Шеллинга, заменив заболевшего Кошанского, сделал уроки словесности живыми и веселыми. Простой и общительный, он быстро завоевал расположение лицеистов и стал человеком, достойным пушкинских строк:
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут сами цари
Завидовать студентам.
Его беседы о литературе длились часами. Он вдохновил юного Пушкина на создание "Воспоминаний в Царском Селе".
Любил, взяв в руки томик Корнелия Непота, говорить:
- Теперь потреплем старика.
Вошло во вторую главу "Евгения Онегина":
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!
В 1821 году А. И. Галича обвинили в атеизме, в революционных замыслах и лишили права преподавать в университете...
Когда Пушкин, вернувшись из ссылки, читал у Веневитиновых "Бориса Годунова", там же присутствовал и наш земляк Семен Егорович Раич (1792-1855) -переводчик "Освобожденного Иерусалима" Тассо, издатель "Новых Аонид", "Северной лиры", а также -"Галатеи", где поместил "Кавказского пленника" и стихотворения поэта. Раич родился в кромском селе Высоком, учился в Севской семинарии, где расстался с прежней фамилией - Амфитеатров. Учил он Ф. И. Тютчева. В Благородном пансионе среди его воспитанников был М. Ю. Лермонтов. Маленький, тщедушный, смуглый, он отличался благоговейным отношением к поэзии. Когда ему издатель "Библиотеки для чтения" предложил гонорар, он отказался гордо:
- Я не торгаш и не продаю своих вдохновений.
Уверял, что Пушкин в дружеском разговоре поддерживал такое же отношение к писательскому труду, что, однако, не помешало поэту заявить:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
...Листая журнал "Столица и усадьба", я обнаружил в номере за 15 февраля 1916 года вынесенную на обложку цветную иллюстрацию к "Пиковой даме". За зеленым столом, в кругу мужчин в париках, разгоряченных карточной игрой, художник А. Н. Бенуа изобразил женщину в пышном платье, с необыкновенной причудливой прической позапрошлого века.
В очерке "Оригинал "Пиковой дамы" Н. Лернер рассказал о Наталье Петровне Голицыной, урожденной Чернышевой. Родилась она в 1747 году и пережила своего гениального родственника, заставившего ее в повести умереть, затем явиться к Германну и назвать три карты. Историю с картами автору "Пиковой дамы" рассказал ее внук князь С. Г. Голицын-Фирс: это ему, по его словам, бабушка помогла отыграться заполучив тайну от известного авантюриста Сен-Жермена в Париже.
Н. П. Голицына была орловской помещицей. Она гордилась фамилией, полученной от мужа, но не забывала и девичью. Когда ей, начавшей придворную жизнь фрейлины еще при Елизавете Петровне, представили дальнего родственника, будущего военного министра А. И. Чернышева, пытавшегося завладеть имением осужденного З. Г. Чернышева, она не ответила на поклон царского любимца и даже громко заявила, что знает только одного Чернышева, того, что сослан в Сибирь.
Подчеркнув свое родство с декабристом, с человеком, посягнувшим на устои самодержавия, гордая дама проявила не только свойственную ее характеру твердость, но и мужество.
Уже одним этим поступком она заслужила внимание к ней Пушкина, отметившего в "Дневнике" сходство героини с оригиналом.
"Она была собой очень нехороша: с большими усами и с бородой",- писал один из современников.
Возникал вывод: зловещее лицо старухи соответствовало народным представлениям о ведьме, чем и воспользовался Пушкин, изобразив ее обладательницей загадочных, потусторонних сил. В то же время ее молодости он приписал красоту. С портрета, приведенного в "Столице и усадьбе" смотрит привлекательная женщина в открытом платье, с венком косы на голове, с чистым и умным лицом.. Если учесть, что Наталья Петровна была умной, приветливой, умела держать себя в обществе, то можно понять, почему она состояла фрейлиной при пяти императорах и вызывала интерес при дворе Марии- Антуанетты.
Ее уважали. К ней спешили на поклон. Она всех принимала сидя. Вставала лишь перед царем.
Повелевай ты нашими судьбами!
Мы все твои, тобою мы живем,-
писал, обращаясь к ней, В. Л. Пушкин.
Когда она прочла поэму его племянника "Кавказский пленник", то отозвалась очень благоприятно...
Наш земляк Петр Александрович Григоров (1804-1851) - уроженец Елецкого уезда, на всю жизнь запомнил встречу с любимым поэтом под Одессой и сам оставил глубокую память о себе.
Дело было так. Прапорщик Григоров, находясь в лагере, задумчиво ходил около своих орудий. Вдруг видит: с большой дороги, подняв облако пыли, катит коляска. В нескольких шагах остановилась. Из коляски вышел молодой человек небольшого роста, чернокудрявый, с быстрыми, умными черными глазами. Поклонился и спросил полковника. Григоров ответил, что его в лагере нет, он - в деревне. Объяснил, как лучше проехать. Затем, почувствовав внезапную симпатию к незнакомцу, спросил, с кем имеет честь разговаривать.
- Пушкин,- ответил незнакомец.
- Какой Пушкин?- воскликнул офицер. Незнакомец улыбнулся и назвал себя полным именем.
- Вы Александр Сергеевич Пушкин, вы наш поэт, наша гордость, честь и слава,- пришел в восторг Григоров.- Вы сочинитель "Бахчисарайского фонтана", "Руслана и Людмилы"?
Восторженный прапорщик обернулся к солдатам:
- Первое орудие, пли! Грянул выстрел.
- Второе орудие, пли!
Еще - салют в честь великого поэта.
Через многие годы П. А. Григоров с гордостью рассказывал об этом Н. В. Гоголю.
В лагере возник переполох. Прапорщик был наказан...
Есть на Орловщине старинное село Кочеты. Там жила Т. Л. Сухотина, дочь Л. Н. Толстого, автор интересных мемуаров. Великий писатель земли русской часто приезжал из Ясной Поляны в Новосильский уезд, в усадьбу с прудом и садом. Радушно встречал гостя его зять Михаил Сергеевич.
Отца Михаила Сергеевича звали Сергеем Михайловичем (1818-1886). В 1833 году Сережа Сухотин и его брат Федя покинули родные Кочеты и поехали в Петербург.
"Лето было жаркое,- читаем в девятом номере "Русского архива" 1894 года "Автобиографическую заметку" С. М. Сухотина,- и мы с братом часто ходили купаться в купальню, что против Летнего сада. Однажды увидели мы между купающимися кудрявую черную голову человека, который нас поразил своей необычайной, замечательной физиономией. Он подплыл к нам и стал учить плавать по всем правилам искусства. Это был Пушкин, имя которого произнес вошедший в купальню князь Петр Александрович Вяземский. Мы были в восторге и целый день потом говорили об этом счастии: такое чарующее влияние имел Пушкин на молодежь".
В 1837 году Сухотин учился в Школе гвардейских прапорщиков, когда пришло известие о смерти Пушкина. Воспитанники были так огорчены, что многие проливали слёзы. В назначенное время никто не лег спать. Толпились и горячо обсуждали горестное известие. Пришел дежурный офицер и приказал разойтись. Ему ответили дерзко. Проводили свистом и криками, другой день генерал Шлиппенбах строго отчитал юнкеров и велел целый месяц выпускать со двора.
"Так мы заплатили за наш энтузиазм и волнение, вызванное вестью о смерти обожаемого нами Пушкина",- писал С. М. Сухотин...
Среди тех, кто имел счастье видеть великого поэта и разговаривать с ним, в книге Л. А. Черейского "Пушкин и его окружение" значится имя историка, уроженца Орла Тимофея Николаевича Грановского (1813-1855).
"Меня только что представили Пушкину с очень лестной для меня рекомендацией",- писал он сестре 10 февраля 1835 года. Разговор с поэтом Тимофей Николаевич считал "приятнейшим в своей жизни". Довелось ему быть на обеде у П. А. Плетнева 15 января 1837 года вместе с Пушкиным, которого он в письмах к сестре звал "величайшим нашим поэтом"... В пушкинском "Дневнике"- упоминается Скарятин - участник убийства Павла Первого: он снял с себя шарф, прекративший жизнь императора.
Помещик Орловской губернии, отставной полковник Я. Ф. Скарятин умер в 1850 году. Пушкин был знаком с его сыновьями Григорием и Федором: оба привлекались по делу декабристов, а последний, художник, был арестован и отправлен "под личный и строгий надзор" своего дяди А. Г. Щербатова...
Широко известен и даже знаменит романс М. И. Глинки на пушкинское "Я помню чудное мгновенье". Иную музыку слышал поэт, музыку Николая Александровича Мельгунова (1804-1867), писателя и композитора, уроженца села Петровского Ливенского уезда, печатавшего многие свои произведения под псевдонимом Н. Ливенский. Встречались они в Москве и Петербурге. Романс был опубликован в 1832 году...
Несколько раз упомянуты в "Дневнике" Бобринские.
Однажды приехал Пушкин в Аничков дворец в треугольной шляпе с плюмажем и чуть не попал впросак. Спасибо, старая графиня Бобринская выручила: остановила на лестнице и напомнила, что сегодня надо быть в круглой шляпе. Сын же ее немедленно послал за круглой шляпой. С благодарностью поэт сделал запись в "Дневнике", добрым словом помянул старую графиню, которая всегда выручает его.
Графиню звали Анной Владимировной, ее сына - Алексеем Алексеевичем.
Фамилия, основателем которой был внебрачный сын Екатерины Второй и Г. Г. Орлова Алексей Григорьевич, возведенный Павлом Первым в графское достоинство, прочно осела на землях Тульской губернии. В тульском селе Богородицком в 1804 году у Анны Владимировны и Алексея Григорьевича родился еще один сын. Назвали Василием. В детстве Василий Бобринский пережил грозу 1812 года. Пришло время, и стал он гвардейским поручиком. Перед сыном богатого землевладельца открывалась большая карьера. Но она не состоялась. В 1824 молодой офицер вступил в Южное общество. На совещании заговорщиков он предложил 10 тысяч рублей на создание за границей типографии, которая печатала бы революционную литературу. Предложение понравилось всем.
После разгрома восстания декабристов Следственная комиссия отнесла В. А. Бобринского к восьмому разряду. Ему грозило лишение чинов, дворянства и бессрочная ссылка на поселение.
От ареста спасло пребывание за границей. Царь 19 июня 1826 года распорядился учредить за ним секретный надзор. Это не испугало Василия Алексеевича. Некоторое время спустя он выдвинул проект освобождения крестьян. Реформа 1861 года его не удовлетворила...
Государственный архив Тульской области бережно хранит документы, связанные с жизнью декабриста. Среди бумаг можно увидеть и герб графов Бобринских, и родословную, из которой узнаем, что во втором браке Василий Алексеевич был женат на Софье Прокофьевне Соковниной, имел от нее сына Алексея и дочь Софью.
Этот брак в 1830 году породнил декабриста с моим родным краем. В Орловском уезде Бобринским принадлежали Альшань, Альшанские выселки, Фоминка и Кнубрь.
Главный дом, окруженный садом, в Альшани стоял на холме. В 1782 году, как утверждают документы Государственного архива Орловской области, здесь жил лейб-гвардии поручик Федор Прокофьевич Соковнин. Затем имение перешло в руки юной Софьи. Ей было 18 лет, когда она стала женой отставного гвардейского поручика, находящегося под надзором. И Василий Алексеевич, и Софья Прокофьевна, как утверждает в своей книге. Л. А. Черейский, входили в круг добрых спутников великого поэта.
В Альшани над ручьем сохранилось здание церкви, построенной в 1844 году на деньги Бобринских. Близ Фоминки, среди полей моего детства, холмится сирень на месте хутора София, названного, видимо, в честь жены или дочери декабриста.
Похоронен он в родном краю. А здесь имя долго хранилось в названии Бобринской степи, ныне распаханной.
- Туча в степь ушла,- говорила бабушка Ефросинья,- дождя не будет.
И поднималась над полем радуга такая высокая, что, казалась, доставала многоцветно сверкающим концом дуги до верховьев Оки, до села Тагино, где когда-то собирались первые революционеры России, где еще ранее жили предки Пушкина... Ярче радуги светит моему сердцу имя гения, донесенное с помощью книг до мест, где каждый холмик знаком, каждая тропинка исхожена босиком.

|
"В начале 1837 года я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер...
Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: "Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!"- засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до тех пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему...
Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз - за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей - и кудрявые волосы... Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом - вообще он казался не в духе - и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу - и невольно повторял про себя:
Недвижим он лежал...И странен
Был томный мир его чела...
Обширную выписку из "Литературных и житейских воспоминаний", открывающих четырнадцатый том академического И. С. Тургенева (М.- Л., 1967, с. 11 -13), можно дополнить множеством примеров из творческой жизни знаменитого орловца, говорящих о его удивительной, благоговейной верности солнцу русской поэзии.
Тургенев всю жизнь находился под благотворным влиянием пушкинского творчества, его славного имени. Молодым литераторам он наказывал беречь наш прекрасный русский язык - достояние, переданное предшественниками, "в челе которых блистает опять-таки Пушкин". Вспоминал, как Кольцов не посмел читать стихи свои в первые минуты после ухода Пушкина от Плетнева. Резко отчитывая своего земляка Д. И. Писарева за нигилистический выпад против поэзии великого учителя, напоминая ему отношение к ней Белинского. Книги Пушкина - верные спутники тургеневских героев.
В "Рудине" Наталья получает письмо, а в нем поговоркой блещет: "Блажен, кто смолоду был молод"... Наталья сжигает письмо и открывает пушкинский том. Автор поясняет: она часто загадывала по Пушкину. В "Дворянском гнезде" Лаврецкий поднимает записку и обнаруживает в ней строку из "Цыган": "Старый муж, грозный муж". В "Асе" героиня задумчиво читает созвучные ее настроению строфы "Евгения Онегина", говорит о своем желании быть похожей на Татьяну. Для Джеммы в "Вешних водах" имена Пушкина; и Глинки звучат "чем-то родным". Варя из рассказа "Андрей Колосов" вспоминает, как близкий ее сердцу человек, сидя рядом на скамейке, читал Пушкина. В "Якове Пасынкове" главный герой любимого поэта ставит выше Лермонтова и называет чудом строки: "Снова тучи надо мною собралися в тишине", "В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать". Героиня "Первой любви", устав от излияния докучного поклонника, "заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух".
Пушкинские образы становятся необходимой частью художественной ткани произведений. В сюжет "Клары Милич" включено "Письмо Татьяны". Героиня читает его со сцены "восторженно и смело". Пушкинскими словами она объясняется с Аратовым. Тот, потрясенный ее чтением, оставшись наедине, открывает Пушкина и мысленно спорит, считая, что она не поняла слов Татьяны. Рисуя образ Марии Полозовой в "Вешних водах", Тургенев вспоминает "святыню красоты", чтобы ярче выделить совсем иное, очень земное обаяние "мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела".
Пунин в рассказе "Пунин и Бабурин", очарованный Херасковым, на вопрос, читал ли он Пушкина, "вознес руки выше головы" и ответил:
"Пушкин? Пушкин есть змея, скрытно в зеленых ветвях сидящая, которой дан глас соловьиный!"
Бедный Пунин "боялся, как дети боятся буки", встречи с поэзией вольнолюбивой и страстной.
Целые сцены вызывает эта поэзия в "Отцах и детях". Николай Петрович восхищение весной передает стихами Пушкина. Базаров настойчиво убеждает Аркадия растолковать дяде, что в наше время нельзя быть романтиком, советует дать ему почитать "что-нибудь дельное". Аркадий отнимает у дяди "Цыган" и подкладывает ему "пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания".
Между Базаровым и поклонниками поэта вспыхивает спор. Человек, для которого природа не храм, а мастерская, весело приписывает Пушкину несуществующие строки: "Природа навевает молчанье сна", "На бой, на бой! за честь России". Аркадий возмущен.
В "Нови" уездный лекарь, любитель ученых терминов выше ставит Кукольника, в нем много "протоплазмы". Зато любимые автором Марианна и Нежданов - восторженные почитатели Пушкина. В "Фаусте" имя русского гения стоит в одном ряду с именами Гете, Шиллера и Шекспира. "Воспоминания о Н. В. Станкевиче" "содержат эпизод разговора с одним современником, который любил Пушкина так же страстно, как и Гоголя.
В речи на обеде в "Эрмитаже" в 1879 году Тургенев говорил о новых Пушкиных и Гоголях, как о явлениях, которых "надо ожидать с смирением и как дара".
Строка из "Памятника" ("услышишь суд глупца...") стала названием одного из стихотворений в прозе и его темой. Получилась волнующая исповедь перед лицом великого певца, всегда говорившего правду. Высоко ценя поэзию Ф. И. Тютчева, Тургенев подчеркивал, что на нем лежит печать пушкинской эпохи.
В 1877 году Иван Сергеевич начал готовить к печати письма, полученные от Натальи Александровны Меренберг. Письма Пушкина! Тургенев явно волновался, просматривая, обдумывая, перечитывая каждую строку. Увидев дочь поэта, удивился ее большому сходству с отцом.
Один из февральских вечеров 1864 года Иван Сергеевич провел в Петербурге у госпожи Марковой-Виноградской (А. П. Керн). Написал Полине Виардо, что она в молодости, должно быть, "была очень хороша собой", что письма Пушкина хранит, как святыню. Анна Петровна показала гостю свой портрет в 28 лет ("...беленькая белокурая, с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием во взгляде и улыбке немного смахивает на русскую горничную вроде Варюши").
Наступил 1880 год - время больших хлопот Тургенева и наивысшего проявления им любви к человеку, однажды встреченному у профессора Плетнева. Россия лежала в сугробах. Морозный январский ветер обжигал лицо. Писатель, не дожидаясь весны, покинул Париж и вскоре прибыл в Петербург. Он не мог сидеть за границей в то время, когда в России идет подготовка к большому торжеству - к открытию памятника Пушкину в Москве.
Подагра на некоторое время уложила Ивана Сергеевича в постель, и он с грустью написал об этом Марии Гавриловне Савиной.
Прошел февраль. В марте Тургенев узнал, что А. М. Опекушин, автор памятника, намерен ему прислать уменьшенную копию в подарок. Поспешил послать скульптору благодарственное письмо.
В апреле написал главному организатору торжеств Я. К. Гроту: попросил уведомить, когда именно состоится открытие памятника.
И выехал в Москву. Оттуда написал Л. Н. Толстому: надо "свидеться и потолковать".
Встретились в мае. Тургенев уговаривал Толстого принять участие в торжествах. Но Лев Николаевич был неумолим. Впоследствии в письме в редакцию "Русских ведомостей" объяснял свой отказ тем, что "такого рода чествования" считал неестественными и не отвечающими его душевным требованиям. Видимо, нелегко было Ивану Сергеевичу мириться с отказом.
Приехав в Спасское-Лутовиново, он увидел парк в роскошном уборе мая и услыхал странную легенду о себе. Оказывается, после взрыва в царском дворце, устроенного заговорщиками, прошел слух, что "император велел на голову Тургенева надеть двенадцатифунтовую чугунную шапку, самого - замуровать в каменный столб, писатель написал об этом М. М. Стасюлевичу и заметил с раздражением, что слухи - следствие семян, посеянных господами Катковыми.
В парке заливались птицы. На втором этаже усадебного дома, за столом, задернутым зеленой тканью, Иван Сергеевич работал. В Москве ему предложили написать о Пушкине популярный очерк. Нет, для очерка времени мало. Он решил подготовить речь для московских торжеств. Работал с воодушевлением. 11 мая известил Стасюлевича, что речь готова. Прочитал: вышло на целые полчаса. Стал сокращать. Сокращая, вспомнил, что главным толкователем поэта был Белинский. Добавил о нем. Наконец, и сокращения, и вставки сделаны. Еще раз прочитал...

|
| Пруд Савиной |
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень.
Одна ты печалишь ликующий день.
На третьей строке его охватило сильное волнение. Он растерялся. С ужасом заметил, что дальше не может читать. Закончил стихотворение вместе с залом...
В субботу, 7 июня, в том же зале заседало Общество любителей российской словесности. Тургенев свою речь произнес с большим воодушевлением. Значительная часть речи, где Пушкин был назван учителем, вызвала, по свидетельству Кони, бурную овацию.
"Нива" обошла ее молчанием.
Мечта великого писателя, что потомок станет свободным человеком, не находила отражения в официальной печати. Но зерно правды о Пушкине было посеяно...
Пришел 1899 год. .Россия отмечала столетие своего гения.
В Петербурге за длинным столом консерватории сидели великий князь, поэт и драматург Константин Романов и вице-президент Академии наук Л. Н. Майков. Выступал с речью А. Ф. Кони. Все шло торжественно и спокойно.
В Москве в Большом зале Благородного собрания о личности и творчестве поэта говорил академик А. Н. Веселовский. И тут не проходило в полном согласии с официальным направлением. Но вот к трибуне вышел Вячеслав Евгеньевич Якушкин, известный своими трудами о Пушкине, внук известного декабриста.
- Спасшийся от декабрьской бури Пушкин,- заявил он,- сохранил свои общественные идеалы, не изменил им.
Весь его доклад был построен в том же духе.
Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Зал наградил смелого пушкиниста аплодисментами, а власти - немедленной высылкой из Москвы в Ярославль. "Нива" 1899 года промолчала об этом. В отчет о торжествах вошла лишь скупая рока: "Второю была речь В. Е. Якушкина об общественных взглядах Пушкина". "Журнал для всех" в эту пору опубликовал стихотворение Ивана Бунина. Поэту было 29 лет. Он еще был на пути к славе всероссийской. Восторженное преклонение перед великим учителем звучало в бунинском стихотворении:
Поэт нам дорог тем, что он
О счастье нам напоминает
И сумрак жизни озаряет,
Как солнце хмурый небосклон.
Дни славы Пушкина - желанный
И светлый праздник. Сколько раз
Его мечты во мгле туманной.
Как солнце, радовали нас!
И этот миг, когда венчает
Его вся Русь,- еще тесней
С его душою нас сближает
И в жизнь, и в счастье, и в людей
Нам веру гордую вселяет!
Бунин настолько сильно любил Пушкина, что в детстве даже подражал ему в почерке. Одна из глав романа "Жизнь Арсеньева"- признание в любви к солнцу русской поэзии.
"Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни",- читаем в романе.
"Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро,- вспоминал Бунин,- и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним:
"Мороз и солнце, день чудесный",
- с ним; который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:
Еще ты дремлешь, друг прелестный...
Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной, выражает мою заветную мечту:
Спеши, моя краса,
Звезда любви златая
Взошла на небеса!
Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей:
Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?..
А там опять "роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы"- той самой, которой с такой страстью предаюсь и я:
Как быстро в поле, вкруг открытом.
Подкован вновь, мой конь бежит,
Как звонко под его копытом
Земля промерзлая стучит!
Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна - и опять звучат во мне дивные слова:
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла,-
и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий час -
К брегам, потопленным шумящими волнами...
Главой романа стало то, что было в 1926 году статьей "Думая о Пушкине", где автор подчеркивал, что Пушкин вошел в него, как Россия, где:
"А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю "Повести Белкина" и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней..."
Закрываю девятый том Собраний сочинений И. А. Бунина 1967 года и долго размышляю о судьбе восторженного поклонника Пушкина, ставшего классиком русской литературы. Не в этом ли признании - главный ключ к открытию секрета творческого взлета писателя, академика и Нобелевского лауреата? Не верность ли пушкинским традициям сразу же помогла ему найти верное направление и спасла от творческого падения на чужбине?..
В Орле - городе юности и любви Ивана Бунина - в 1899 году была открыта библиотека имени А. С. Пушкина. В зале Дворянского собрания на берегу Оки звучали речи. Телеграфист выстукивал телеграмму сыну поэта Г. А. Пушкину. "Орловские епархиальные ведомости" опубликовали стихотворение Ильи Ливанского, в котором автор вспомнил открытие памятника в Москве:
Но ты, поэт наш несравненный,
С тех пор еще мне ближе стал,
Когда твой образ вдохновенный
К себе в Москве всех приковал…
Я помню, как в одно мгновенье
Задумчивый твой строгий лик
Привел всех в радость, в восхищенье
И в душу каждого проник.
На памятнике, как известно, была помещена строфа, отредактированная В. А. Жуковским. В Орле на праздновании столетия поэта она прозвучала в первозданном виде:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Только "в мой век" исправили. Прочли: в наш", отчего строки стали созвучными времени празднования столетия.
В это время в редакции "Орловского вестника", где несколько ранее работал И. А. Бунин, сидел за столом человек, которому удалось продолжить смелую речь В. Е. Якушкина.

|
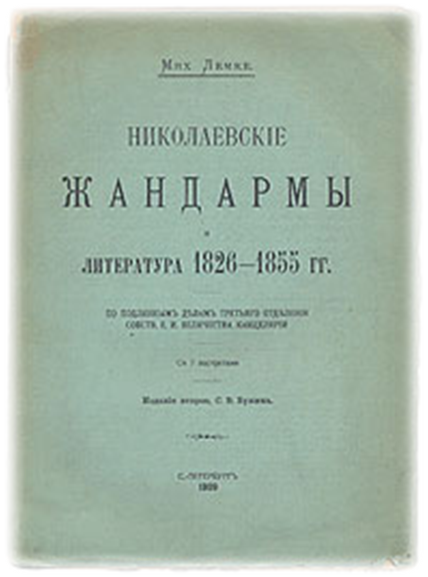
|
Михаил Константинович Лемке (1872- 1923) опубликовал в "Орловском вестнике" более трехсот статей на разные темы. Будущий историк русской литературы резко критиковал порядки в Орле, печатаясь под псевдонимом "Не Козьма Прутков". Местными властями его критика, разумеется, принималась в штыки.
Автор переехал в Петербург. Там ему удалось заглянуть в архив Третьего отделения - высшей полиции, учрежденной царем после восстания декабристов. В итоге была написана книга "Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг.".
Мне в Орле встретилось второе издание 1909 года.
"Муки великого поэта"-так назвал автор четвертый раздел книги, начав его словами: "Одиннадцать лучших лет своей жизни великий поэт, Александр Сергеевич Пушкин, был, можно сказать, в ежедневных сношениях с начальством III Отделения, Бенкендорф, Фок и Мордвинов - вот кто были приставлены к каждому его слову и шагу... На его долю выпали такие муки, которых не испытывал тогда ни один русский писатель".
В печати царило мнение, будто Николай Первый осыпал милостями поэта и возвышал над всеми литераторами. М. К. Лемке привел строки из статьи П. Е. Щеголева "П. Г. Каховский", опубликованной во втором номере журнала "Былое" 1906 года: "Государь выдавал себя не за того, кем он был на самом деле; государь играл".
Двуличный император актерствовал перед К. Ф. Рылеевым, посылая деньги его жене. Заигрывал он и перед Пушкиным, стремясь "приручить льва".
На словах он был милостлив, а на деле...
Лемке привел полностью в своей книге письмо Бенкендорфа, в котором шеф жандармов отчитал Пушкина за то, что тот посмел читать "Бориса Годунова", не показав его предварительно царю. Поэту пришлось давать объяснение.
Известна нелепая резолюция коронованного цензора, на гениальную трагедию: переделать в роман "наподобие Вальтер Скотта". Лемке привел резолюцию, а в качестве приложения поместил "Замечания на комедию о Царе Борисе и Гришке Отрепьеве". Автор "Замечаний", написанных по заданию царя, писал, что "литературные достоинства гораздо ниже, нежели мы ожидали", что "некоторые места должно непременно исключить", что в новом произведении поэта "все - подражание, от первой сцены до последней". Выбросить предлагалось и слова юродивого о царе Ироде, и сцену в корчме, и монолог Бориса.
Ныне доказано, что автор "Замечаний"- Ф. В. Булгарин. Он не только преграждал путь "Борису Годунову", но и не постеснялся воспользоваться некоторыми сценами для написания своего исторического романа "Дмитрий Самозванец" в четырех частях. Творение редактора "Северной пчелы" было издано на отличной бумаге, с иллюстрациями, и "блистало" таким слогом: "Любовь испытуется жертвами... Кто любит, тот охотно пожертвует собою для блага любимого предмета... Отказываюсь от себя, даю тебе свободу - но ты должен обвенчаться со мною - не для меня, а для детища, которое ношу в утробе".
Как же все это далеко от гениального пушкинского: "Она! Вся кровь во мне остановилась".
Человеку, ставшему на пути "Бориса Годунова", Лемке выделил в своей книге целую главу. Рассказал, как Фаддей Булгарин, выходец из Польши, сначала служил в русской армии, потом на улицах Ревеля просил милостыню "в литературных, а иногда и в стихотворных выражениях". В 1812 году служил в армии Наполеона. В 1814 году попал в плен к пруссакам. После обмена пленными оказался в Париже. Оттуда приехал в Петербург и взялся за перо. Верный исполнитель царской воли, он доносил на лучших писателей своего времени. Будущий объект пушкинской сатиры представлял собой, по мнению современников, пеструю смесь Фамусова, Молчалина, Скалозуба, Загорецкого и Репетилова. О нем ходила эпиграмма:
Двойной присягою играя.
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал.
Когда стала известной пушкинская эпиграмма "Не то беда, что ты поляк", где Фаддей был назван Видоком Фигляриным, Булгарин посоветовался, с кем надо, и поместил ее в своем соединенном журнале "Сын Отечества и Северный Архив", поставив в ней полное свое имя и приложив пояснение: "В Москве ходит по рукам и пришла сюда, для раздачи любопытствующим, эпиграмма одного известного поэта. Желая угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение от искажения при переписке, печатаем оное".
Этот эпизод М. К. Лемке привел в книге "Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия".
Тяжелы были муки поэта. Лемке поведал читателям, как Пушкину вернули "Медного всадника" с вопросительными знаками царя, как "История Пугачева" превратилась в "Историю Пугачевского бунта", как тайно от народа хоронили поэта и строго отчитывали того, кто посмел напечатать: "Солнце русской ,поэзии закатилось! Пушкин скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.."
На последнюю страницу книги о николаевских жандармах и муках великого поэта М. К. Лемке вынес монолог предка А. С. Пушкина из "Бориса Годунова":
Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове!
И поделом ему!..
Михаил Константинович писал книгу под живым впечатлением грозы 1905 года, когда он, внук адмирала, на улицах Петербурга, встречая восставших рабочих, снимал фуражку и кланялся их красным знаменам. Он редактировал журнал "Книга", выпустил два Полных собрания сочинений с обширными комментариями: Н. А. Добролюбова в четырех томах и А. И. Герцена - в двадцати двух. Известны его труды по истории революционного движения.
В Орле, кроме перечисленных изданий, мне довелось обнаружить "Эпоху цензурных реформ 1859 - 1865 годов". В книге описано время М. Е: Салтыкова-Щедрина и Л. Н. Толстого, но и встречается имя Пушкина. В одном месте автор восхищается великим поэтом и его плеядой, которая блистала, в другом - вспоминает пушкинские стихотворения "Вольность" и "Кинжал", в третьем - недоумевает, что П. А. Плетнев, друг Пушкина, отозвался о М. H. Каткове с похвалой. Лемке считает это недопустимым, невольно как бы перекликаясь с Тургеневым, с его принципиальным поведением на московском обеде 1880 года.
Толстый том, в 850 страниц на серой бумаге 1920 года назван интригующе "250 дней в царской ставке". Это - дневник, который вел Михаил Лемке во время первой мировой войны, находясь в ставке главного командования русской армии. Вел тайком. можно лишь удивляться смелости и трудолюбию автора.
Лемке оказался свидетелем крушения старого мира и рождения нового. На его глазах пал венец с головы последнего царя, радостно встретив Октябрь, писатель вступил в партию большевиков, стал профессором Педагогического института имени Герцена в Петрограде. Встречался с В. И. Лениным. Как пишет М. Г. Вандалковская в книге "М. К. Лемке - историк русского революционного движения" (М., 1972), среди трудов нашего земляка центральное место занимает подготовка к изданию Полного собрания сочинений А. И. Герцена: 30 лет собирания материалов, включение в научный оборот неизвестных источников. Что касается книги "Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг.", то она получила высокую оценку сразу же после выхода в свет первым изданием, например, в январском номере "Вестника Европы" 1908 года отмечалась важность книги, как единственного источника сведений о деятельности III отделения: "Полными пригоршнями автор черпает из архивов".
И не только из архивов. Пушкинская глава впитала в себя немало материалов, рассеянных в разных изданиях. Сведенные вместе, интересно прокомментированные, они представляли собой нечто новое. Так, рассказывая о поездке поэта на Кавказ, автор ярко показал неблаговидную роль шефа жандармов. Еще в марте узнал он о предполагаемой поездке, а царю доложил лишь в июле, чтобы создать впечатление, будто узнал "случайно". Разгневанный император потребовал от тифлисского губернатора "призвать к себе Пушкина и спросить, по чьему позволению он предпринял поездку". "Северная пчела" Булгарина подливала масла в огонь доносительной заметкой о поездке Пушкина на юг.
Страницы книги М. К. Лемке дают возможность лучше представить настроение поэта, когда он ехал через Орел.
Время воздает каждому свое. Густую тень оно бросило на личность Булгарина, подтолкнув в реку забвения его добротно изданные книги, печатью проклятья заклеймило имена Николая Первого и его верного слуги Бенкендорфа.
Время ярчайшими лучами высветило имя поэта - веселое, взрывчатое имя русского гения.
Люди разных поколений, читая Пушкина, приняли к сердцу его книги. Приняли и муки, воспылав страстным негодованием против тех, кто преследовал и травил его.
М. К. Лемке был одним из первых, кто из архивных недр III отделения вынес правду на свет.
В советские годы подобные публикации хлынули потоком.

|
В это зимнее утро липы села Ильково, что стоит по дороге из Орла на Мценск, были удивительными, опушенные сверкающим инеем, окруженные белым простором полей. По глубокому снегу прошли мы к тому месту, где возвышалась мраморная стела с барельефным портретом Ивана Алексеевича Новикова. Нашему воображению предстала изба, крытая соломой: в ней родился и провел детские годы писатель.
Дата его столетия подсказала Орлу провести вечера в музее И. С. Тургенева, областной библиотеке имени Н. К. Крупской, в клубе книголюбов имени Н. С. Лескова, Мценску - назвать улицу именем земляка, отметить мемориальной доской дом, где он учился. Гостями Орла и Мценска стали Марина Николаевна Новикова-Принц и ее брат Ростислав Николаевич, приемные дети Ивана Алексеевича.
В роскошном царстве русской зимы говорили и говорили мы о писателе, для которого жизнь Пушкина была волнующей частью собственной жизни. С детства, озаренного пушкинским томом, до последних дней пронес Иван Алексеевич возвышенную нежную любовь к поэту. Написал "Пушкин в Михайловском", "Пушкин на юге", приступил к роману "Пушкин в Москве", но, когда речь заходила о дуэли и смерти, он темнел и прерывающимся от волнения голосом говорил:
- Этого я описать не могу. Не могу...
Как будто боялся, что собственное сердце не выдержит, взорванное последними словами поэта: "Жизнь кончена. Тяжело дышать... Давит".
Сложно уловить и разгадать движения души великой. Для этого мало быть горячим собирателем и пытливым исследователем. Этими качествами наш земляк обладал вполне. Но он не только собирал, изучал, исследовал. Он жил Пушкиным!
Можно случайным совпадением считать такой факт его биографии, что первый рассказ "Сон Сергея Ивановича" был написан в юбилейном пушкинском 1899 году. Но не случайно обращение к образу Пушкина на всем творческом пути писателя.
Весной 1917 года, в Орле, И. А. Новиков написал стихотворение "Родина". Ильковские поля, ильковские ракиты и липы подсказали ему:
Эта верная, родная,
Неотрывная земля!
По тебе, в годах шагая,
Мерил я твои поля.
Вспомнил, как с косой ходил в луга, как "правил плугом борозду", и:
Чуть весна, опять к опушке -
Слушать говор вешних птиц,
А в руках уж, верно, Пушкин -
Пенье дорогих страниц!
Страницы пели созвучно вешнему ветру родных полей, звону птиц и хору воспоминаний об утренней поре жизни.
Встречей с отчим краем было навеяно тогда же и стихотворение "Освобожденная земля":
Родной мой край! С какой любовью
Тебя свободная рука,
И плуг, и заступ, и кирка
Озолотят богатой новью!
На праздник солнца и земли,
Зерна благословляя роды,
Ворвался - радостно внемли -
Непобедимый ветр свободы.
Непобедимый ветр свободы" придал окрыленность творчеству писателя. Он обрел силы для выражения сокровенных дум, для написания главной книги.
Мысль написать роман о Пушкине была подсказана поездкой в Михайловское в августе 1924 года. Иван Алексеевич живо представил все, что было на берегах Сороти сто лет назад. Под ногами была земля, по которой ходил Пушкин. Густо пахло хвоей, как и при нем. Воздух, которым он дышал, свежо обнимал лицо.
Несколько лет ушло на собирание материалов, на изучение пушкинской эпохи.
В 1934 году писателю было 57 лет, но удивительно молодо билось сердце. Вдохновение, посетив его в Михайловском, не отпускало. Он спешил вместе с Пушкиным пережить его прощание с Одессой, прощание с красавицей яхтой, что отплывала, серебрясь парусами:
"Ему и отсюда грезилось воздушное белое платье графини Елизаветы Ксаверьевны, гордая ее легкая шея и крестик, который он целовал, смеясь, что она его сделает добрым католиком. "Но я уж давно православная!"- возражала она; тогда он целовал мимо креста... Свежий ветер дул с моря, и яхта лавировала. Будет ли легок ей путь?"
Я выписываю эти строки из второго тома собрания сочинений И. А. Новикова и вспоминаю устный комментарий к ним Марины Николаевны Новиковой-Принц. О поэте писал поэт, о любви - влюбленный.
- В образе Елизаветы Ксаверьевны он видел свою жену, мою маму,- поясняла Марина Николаевна.- Ведь и роман посвящен ей, Ольге Максимилиановне Новиковой.
Рассказывала, что встретились они в Орле. Любили бродить по улицам старого города, слушать шум ветвистых лип на берегу Дворянского гнезда. Жили в городе Тургенева и Лескова! Это не могло не вызвать светлых и радостных дум. Нередко проходили мимо бывшего губернаторского дома, где родилась А. П. Керн. И венчались в Петропавловском соборе, почти рядом с домом милой вдохновительницы Пушкина, его чудного мгновения...
Он думал о ней, когда еще только начал писать своего "Пушкина в Михайловском", с трепетом ждал, когда она войдет в роман и заговорит. О чем заговорит? Как увидит ее поэт?
В роман она вошла легко и просто. Он, почтенного возраста русский литератор, смотрел на нее глазами Пушкина и чувствовал: сердце бьется молодо - молодо, как у него, двадцатишестилетнего. Нет, он еще был моложе, когда вошел в дом П. А. Осиповой и увидел ее:
"Как бы внезапный молодой ветер овеял его, и он совсем забыл о своих двадцати шести трудных годах. Опять перед ним возникало, двоясь и сливаясь в одно, воздушное и чистое видение юности...
В ответ на глубокий поклон и Керн наклонила приветственно голову, так что стал видней тугой узел прически, подымавшейся тяжелой короной. Все лицо ее вспыхнуло милой застенчивостью, и колыхнулись волшебно для Пушкина завитки белокурых волос у розового маленького уха.
- Наконец-то я вижу вас! - промолвила она"...
А потом - поездка в Михайловское. Через сто и многие сотни лет будут люди, очарованные Пушкиным, глазами сердца видеть этот путь, повторять вместе с ним:
"Анна Петровна отдавалась очарованию ночи. И она слушала Пушкина, как слушают музыку, даже тихонько, покачиваясь в такт его речи, которую можно было бы назвать коварной и завлекательной, когда бы насквозь не была она доверительной и чистосердечной...
Ему казалось сейчас, что самое время побеждено, что через толщу минувших лет он снова обрел молодые, чистые чувства".
Наконец, самое главное:
"Пушкину удалось увидеть Керн на минуту наедине. Он исполнил ее пожелание и поднес ей "Онегина", но меж неразрезанных листов его она усмотрела вчетверо сложенный лист почтовой бумаги. Рука его дрогнула, когда он передавал эти стихи, написанные им ночью. Они у него вылились без напряжения и были легки, как дыхание... Керн на него поглядела, но ей невозможно было прочесть его скрытую думу. Тогда она развернула листок и стала читать. Стихи эти шли к самому сердцу.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты.
Как мимолетное виденье.
Как гений чистой красоты...
Грудь ее дышала неровно и часто, зарозовело лицо.
- Как я вам благодарна! Как восхитительно это! - И она прижала листок к груди".
Можно бы на этом и расстаться, но писатель еще долго не отпускал удивительную гостью романа, долго не позволял ей исчезнуть за невидимой чертой сюжета: ведь она, он не сомневался в этом, любила Пушкина. Она не могла не ответить жарким, взаимным чувством.
"Пушкин в Михайловском" вышел в 1936 году. Тогда же был написан рассказ "Камера номер четырнадцать". Эпиграфом взял предсмертные слова поэта: "Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского". Описал сибирскую зиму, безветренную и колючую, томительное однообразие дней Ивана Пущина и воспоминания, вызванные драгоценным приветствием друга, переданным через частокол отважной Александрой Муравьевой. Стихи перечитывал Пущин, и слезы застилали глаза.
Сюжет был выбран удачно. Связь с декабристами удалось показать через самое задушевное, через верность дружбе от лицейских дней до смертного часа.
А кто еще был особенно дорог ему? Конечно, няня, та прославленная им на века крестьянка, которую называл он мамой. В 1939 году И. А. Новиков написал рассказ "Свидание с няней". Бродит Анна Родионовна по дому, тоскует о нем: увезли Александра Сергеевича к царю и все будто вымерло в Михайловском. Но вот раздается звон бубенцов и, как молодая, она выбегает на крыльцо, крича:
- Пирог выносите! Свечи на окнах зажечь!
Забывает поэт и встречу с царем, и блеск его коронации, и даже всех милых женщин: "Он дома, он дома... Деревня, родная земля!"
Читаешь рассказ и невольно думаешь: да это же "Деревня, родная земля!" вырывалось из души автора при встрече с орловским, ильковским раздольем. Писатель с радостью находил в пушкинской жизни страницы, созвучные своим переживаниям. Вот откуда глубокий лиризм, изумляющая достоверность описаний.
"Деревня, родная земля!"- эти слова можно поставить эпиграфом к рассказу Новикова "Часок в Захарове", где юный Пушкин показан в воспоминаниях о милом подмосковном приволье.
Исследуя развитие чувства Родины в творчестве Пушкина, наш земляк пришел к новой теме. Сразу же, закончив "Пушкина в Михайловском", он взялся переводить "Слово о полку Игореве":
Не ладно ли было бы,
Братия,
Песню нам начать -
Ратных повестей
Словесами старинными...
В 1940 году перевод был опубликован, но в каждом новом издании читатель обнаруживал следы дальнейшей работы.
В 1941 году в боях под Москвой, как об этом потом узнал писатель, лейтенант обнаружил в развалинах книгу с текстом поэмы и громко прочитал: "Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоревы". "Слово" звало в новый бой...
Героика Древней Руси захватила писателя. Следующим произведением на пути переводчика была "Задонщина". Затем пишутся "Русские героические повести", "Донские стихи".
Лунная ночь на Дону "в росах, звездах, соловьях" навеяла строки о давней поре, когда "Русь дышала юная на заветных рубежах", когда певец с воинами в одном строю шел в бой "за родную землю Русскую, за отцовские поля". Радость приливала при виде легких волн славной казачьей реки, при виде древних холмов Отечества.
"Донские стихи" писались в пору расцвета славы "Тихого Дона" героического и драматического шолоховского повествования о России, охваченной пламенем революции. Иван Новиков, обращаясь к мужеству предков, будто предчувствовал, что на этой земле вновь закипят бои, и потомки воинов князя Игоря, потомки героев Куликовской битвы будут сражаться за Родину.
И сошлись тучи невиданной грозы...
В пору вражеского нашествия Иван Алексеевич работал над романом "Пушкин на юге". Находясь в Каменске-Уральском, он провел множество пушкинских вечеров. На собранные деньги был сделан самолет "Александр Пушкин". Капитан Горохов, сражаясь на нем, получил звание Героя Советского Союза. Фотография пилота навсегда вошла в кабинет писателя, в солнечный пушкинский мир, которым он жил до последнего часа.
На одном из вечеров, посвященных 100-летию И. А. Новикова, школьник читал:
Свежесть ручья в колыхании пушкинской строчки;
Снежная скатерть у Фета в берез оторочке;
Тютчевский полдень в грозу, и просторы глухие -
Блоком воспетые - многострадальной России...
Стихотворение родилось в январе 1943 года. В том же году завершался "Пушкин на юге". Последняя глава "Салют" рассказывала, как прапорщик Григоров пушечной пальбой чествовал поэта:
"Он машинально начал разглядывать пушки.
- Эй, кто такой?- послышался окрик. Пушкин взглянул. Издали быстро к нему приближался молодой офицер.
- Что вы здесь делаете? Кто вы?
- Я Пушкин,- просто сказал он.
Офицер отдал ему честь и быстро побежал прочь, махая рукой и что-то крича. Весь лагерь встревожился. Пушкин несколько отошел, так как все бежали прямо к орудиям.
- Смирно! - закричал офицер.- Слушать команду! К орудиям! Приготовиться к стрельбе! Пли!
Грянул залп. Офицер с сияющим, красным от возбуждения лицом подошел к Александру.
- Честь имею представиться, дежурный офицер Григоров.
Пушкин, улыбаясь, пожал ему руку.
- А зачем вы палили?
- В вашу честь, Александр Сергеевич! В честь любимого поэта России".
Знал ли Иван Алексеевич, что восторженный почитатель Пушкина был его земляком? Наверное, знал. Во всяком случае, роман завершался в том году, когда Москва первым салютом приветствовала освободителей Орла и Белгорода. Так два салюта из разных времен слились в одну громозвучную музыку во славу и честь гениальной одаренности русского народа. Завершена дилогия. Вернулась к миру страна. А ему, старому писателю, все сиял и сиял образ любимого поэта. Летом 1946 года он написал стихотворение "Наедине с собой" с эпиграфом из Пушкина:
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.
В бело-золотой березе, ронявшей листья, увидел отражение собственной судьбы:
Не умиляясь, не горюя.
Дышу и жду, когда в поток
Бегущей жизни оброню я
Последний пушкинский листок.
И в других стихах - верность ему. В пушкинской строчке видел он и свежесть ручья, и трепет осенней березы, и дыхание русских полей. На улицах города представал глазам идущий "весело и мудро" "Пушкин - человек". Снегопад навевал думы о детстве и любимом поэте. Во сне преследовали две музы "в виде голубей", посещавшие Пушкина в Михайловском. Не раз вспоминалось, как читал его стихи на вечерах в Каменске - Уральском, как рождалось крылатое воплощение всенародной любви к великому поэту:
Так, русские, мы и наш русский поэт,
Чьей музы не гаснет пленительный свет.
Победный предчувствуя вольный полет,
Совместный сковали ему самолет.
Писатель приступал к третьему роману "Пушкин в Москве". Обозначились контуры главы о возвращении из ссылки, что нашло отражение в стихотворении "Рождение "Пророка":
Он руку, жмет заре с востока,
Он ловит солнца первый свет -
И вот глаголами "Пророка"
Насытил тишину поэт.
В 1951 году появилась в. печати большая работа писателя "Пушкин и "Слово о полку Игореве". Это не было отступлением от задуманного третьего романа, который так и остался ненаписанным. Исследование родилось из долгих размышлений о творческом движении Пушкина. Эпиграфом исследования стало лирическое признание автора:
Как и обычно: с Пушкиным вдвоем
И с редкостным изданьем "Слова"
Мы вместе дышим, думаем, поем
И пьем из родника Былого.
О - древнее,- как молодо оно!
Как гусли вторят в нем поэту!
Хвала ему, и Пушкину, и лету,
Что жизнью до краев полно!
За три дня до дуэли Пушкин говорил о древнерусской поэме. Новиков предполагал, что с размышлениями поэта о собственной судьбе перекликались слова князя Игоря: "Лучше убитым быть нежели полоненным быть!" Терзаемый предчувствием конца, он обращался к самому дорогому из поэтических творений. Оно сопутствовало ему всю жизнь. Под могучим воздействием "Слова" было создано стихотворение "Воспоминания в Царском Селе". Исследователь, вчитываясь в два произведения, приходил к выводу: творение лицеиста - воинская повесть, а безымянный автор "Слова"- его гениальный собрат.
К новиковскому исследованию невольно хочется присоединить тот факт, что "Воспоминания" заказал-присоветовал лицеисту его преподаватель А. И. Галич, детство которого прошло в Трубчевске, в тех орловско-брянских местах, откуда родом, по мнению некоторых ученых, гениальный автор "Слова". Не удивительно, что в наши дни был открыт в этом городе памятник Бояну - "славному соловью старого времени". Чувством Родины, чувством глубинных связей с былинами седых времен не могли не дышать разговоры Галича с юным Пушкиным. И всплывали, быть может, в этих разговорах названия, дорогие сердцу Галича: Трубчевск, Севск, Карачев. От них недалеко до Путивля Ярославны, Новгород-Северского, Чернигова. Оживали места, овеянные шумом дивно-торжественных Брянских лесов, где и Соловей-разбойник молодецким посвистом округу в трепет приводил, и славный Илья Муромец на коне проезжал, и зловещая тень Кудеяра падала на светлоокий лик Десны-красавицы...
"Весеннее солнце играло в струях широкой Десны, катившей к Чернигову свои полные воды. Свежие, влажные ветры издалека плыли от Дона. Луга были зелены, но зелень сама еще не колыхалась, лишь на горизонте заметно над травами зыбился воздух, прогреваемый солнцем"...
Так и тянет выписывать одну картину за другой из повести И. А. Новикова "Сын тысяцкого", из этой живописной поэмы о предполагаемом авторе "Слова о полку Игореве". В ней пел Тимофей, изредка касаясь гуслей, и никто не мог проронить ни слова. Перед воинами расстилалась широкая русская степь. Каждое слово ложилось на сердце. Частые слезы Ярославны капали "в ее мед в хрустале".
"Эта песня была как бы о каждом из них и в то же самое время о всех: песня о Русской земле",- слова повести можно отнести и к Пушкину. К нему же - клик: "Вот оно - сердце, что трепещет, как птица; вот она - жизнь человека!"
Но духовное родство двух гениев в повести лишь можно угадывать. В исследовании "Пушкин и "Слово о полку Игореве" оно раскрыто доказательно на обнаруженных созвучиях образов, на верности поэта исторической теме.
Рассматривая это родство, Новиков приходил к выводу, что Пушкин "стремился постигнуть самое содержание народности, которое он столь кратким образом выразил в единственной строчке из своего вступления к "Руслану и Людмиле": "Там русский дух... там Русью пахнет!"
Смерть писателя 10 января 1959 года прервала работу над романом "Пушкин в Москве" в самом начале. Отрывки увидели свет в 1962 году в "Орловской правде" и в журнале "Москва"...
- Мне бы хотелось встать на колени на этой земле,- эти слова прозвучали как благодарность Ивану Алексеевичу за его верность А. С. Пушкину. Произнес их летом 1977 года под старыми ильковскими липами Г. Г. Пушкин.
Правнук великого поэта навестил край Тургенева, край своих далеких предков, родное село Ивана Алексеевича - давнего друга. В Орле поклонился могиле А. П. Ермолова.
В свое время И. А. Бунин писал: "Помню жуткие, необыкновенные чувства, которые испытал однажды (в молодости), стоя в церкви Страстного монастыря возле сына Пушкина, не сводя глаз с его небольшой и очень сухой, легкой старческой фигуры в нарядной гусарской генеральской форме, с его белой курчавой головы, резко-белых, чрезвычайно худых рук с костлявыми, тонкими пальцами и длинными, острыми ногтями".
Герой Освободительной войны в Болгарии, генерал А. А. Пушкин в 1913 году был еще жив, когда у его сына Григория, впоследствии красного командира, родился сын.
Трудно было объяснить радостное волнение, охватившее нас. С нами беседовал, с нами бродил по Орлу и Мценску не просто пожилой москвич, бывший типографский рабочий, а человек, в жилах которого - кровь Пушкина! В его голосе, походке, обаятельной простоте мы искали что-то от личности, заворожившей читающий мир.
Григорий Григорьевич с улыбкой вспоминал эпизод из фронтовой жизни. Немец, взятый им в плен, вытянулся по команде "смирно" и заявил:
- Всю жизнь буду гордиться, что меня взял в плен правнук Пушкина!
Первая встреча с ним была в библиотеке имени великого поэта. Зал замер, услышав:
- Моя прабабушка Наталья Николаевна говорила, что имя Пушкина принадлежит народу.
Мгновенно стало очень близким, почти осязаемым то, что мы знали из книг...
Под ильковскими липами вспомнил он одну из встреч с писателем Новиковым. Иван Алексеевич приехал поздравить Григория Григорьевича и Марию Ивановну с рождением сына. Подхватил на руки маленького Сашу и воскликнул растроганно:
- Это лучшая мне награда за все, что я написал о Пушкине!
...Долго мы стояли в тишине ильковского сада, у мраморной стелы с барельефным портретом. С полей набегал легкими волнами ветер. Дорога наша лежала во Мценск, где один из Пушкиных служил воеводой, в тургеневское Спасское.
Я представлял себе давнее утро ильковского сада и на пороге избы мальчика с книгой, открытой, как мир:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.

|
"Пушкин в первых прижизненных изданиях поражает своей суровой ясностью и простотой. "Онегин" первого издания, в скромных на вид маленьких тетрадочках-главах, в простых и таких милых обложках, иногда может совершенно по-новому быть прочитан вами. Как-то вот между вами, читателями, и гениальным создателем этого произведения ничто не стоит. Ничто не мешает, не отвлекает. Ни рисунки, ни примечания, ни предисловия. Вот просто - слово Пушкина и вы - его читатель. Доказать это трудно. Тут немножечко, может быть, от поэзии, но ведь и "Евгений Онегин" не проза..."
Строки, выписанные мною из "Рассказов о книгах" Н. П. Смирнова-Сокольского, можно поставить эпиграфом к воспоминаниям о самом увлекательном поиске.
Все началось с того, что я с превеликим интересом прочитал библиофильское повествование Н. П. Смирнова-Сокольского Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина".
Нет необходимости говорить, насколько: сильным было желание разыскать в бурном и безбрежном книжном море сказочный остров сокровищ - прижизненного Пушкина.
Первым делом зашел в Речной переулок, в старенький домик старого знакомого Ф. Я. Студенникова. Радость рыться в его запасах неожиданно умножилась. В руки попал крохотный томик. На твердый переплет была вынесена обложка. В строгой наборной рамке стояло:
"Граф Нулин. Сочинение Александра Пушкина". Ниже:
"Санктпетербург. 1827". На задней части переплета в такой же рамке я увидел типографскую виньетку (букет) и текст: "Продается в С.Петербурге во всех книжных лавках, по 2 рубля 50 коп. за экземпляр. За пересылку в другие города прилагается 50 копеек". На шмуцтитуле значилось название поэмы, на следующем листе- название, имя автора, год и место издания: "В типографии департамента народного просвещения". На обратной стороне указывалось, что книга издана "с дозволения правительства".
Половину первой страницы занимало название, а дальше - знакомые строки:
Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает...
Никогда еще так празднично не трубили мне знакомые с детства рога, никогда я не обозревал с таким наслаждением находку. Восхищался. Показывал друзьям. Поставил на полку и дополнил изящным изданием "Графа Нулина" 1959 года, украшенным рисунками Н. Кузьмина.
Моя находка спорила с примечаниями академического десятитомника 1963 года, где утверждалось, что поэма вышла в 1828 году. В чем дело?
Оказывается, как пишет Смирнов-Сокольский, "Граф Нулин" был отпечатан все-таки в 1827 году, но его продажу поэт на время отложил. Не хотел мешать распространению "Северных цветов" Дельвига, где была помещена поэма вместе с отрывком из "Бала" Баратынского...
Насторожило в моей находке лишь качество бумаги и слишком мелкий шрифт текста. Одна обложка не вызывала сомнений в подлинности первого издания. Однако и она не устояла перед встречей с экземпляром с указанием, когда именно было сделано точное воспроизведение книги...
И вот, когда я уже терял надежду взойти на вершину книгособирательства, мне повезло удивительно просто: обменным путем пожаловали в мой дом милые "Братья разбойники"-второе издание 1827 года, тонкая брошюрка с перечеркнутой букинистом ценой в 42 копейки, с волнующей строгой рамкой на лицевой стороне обложки, с виньеткой на титульном листе. Узнал: весь тираж был на время не допущен автором к. продаже. Поэт сам вместе с С. А. Соболевским отвез книги на квартиру И. В. Киреевскому.
Сам! Учащенно забилось сердце, когда я узнал об этом...
Книги пролежали до 1915 года. От Сергея Ивановича Киреевского, сына критика, книги поступили к букинисту И. М. Фадееву.
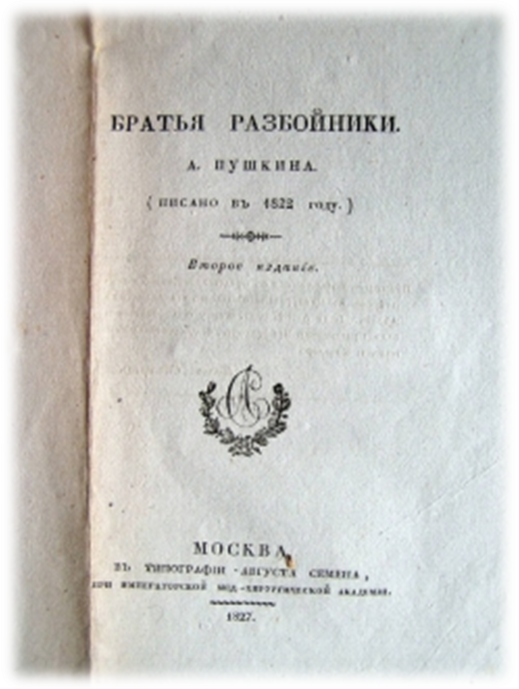
|
К чему холодные сомненья?
Я верю, здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья.
В 1914 году столетию напечатания первого произведения поэта "К другу стихотворцу" в журнале "Вестник Европы", в Москве вышла тиражом в 600 экземпляров книга Н. Синявского и М. Цявловского Пушкин в печати". Изданная на прекрасной бумаге, она стала мне надежным спутником в мир Пушкинианы.
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как бы хотелось это прочитать в первом издании!
Я открываю суворинское издание в восьми томах 1903 года под редакцией П. А. Ефремова и нахожу хорошо скопированный титульный лист "Цыган" 1827 года, напечатанных в типографии Августа Семена. Приведена виньетка (опрокинутая чаша, змея, кинжал), вызвавшая переполох в III отделении. Комментируя поэму, Ефремов рассказал, что при выходе "Цыган" возникло подозрение в неблагонадежности автора. Генералу Волкову было велено произвести секретное дознание: не Пушкин ли доставил виньетку в типографию, не сам ли нарисовал ее. Генерал допросил издателя. Тот сказал, что виньетка в числе других куплена за границей, оттиск с нее можно даже встретить в альбоме, преподнесенном царю. Великолепный экземпляр альбома доставили в III отделение и, обнаружив там виньетку, успокоились.
Комментарий убедительно говорит о пользе собирания прижизненных изданий, повышает интерес к особенностям оформления.
Продолжение комментария нахожу в других книгах.
В эпилоге "Цыган" автор делился воспоминаниями о том времени, когда и сам он бродил вместе со своими героями:
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы -
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Почему Мариулы? Ведь главная героиня - Земфира. Впрочем, набрасывая программу поэмы, автор хотел подругу Алеко назвать Марианной. Марианна и Мариула сродни Марии, а уж это имя было любимым. В "Полтаве" историческое лицо Матрена под пером автора становится Машей, в "Дубровском" встречает нас Маша Троекурова, в "Капитанской дочке"- Maрия Миронова. Это же имя носила дочь поэта, внешние черты которой Л. Н. Толстой придал Анне Карениной, добрая и мужественная Мария Александровна, входившая в 1918 году в кабинет А. В. Луначарского, сидевшая в черном платье у памятника отца...
Всегда занимает жизненный материал, положенный в основу произведения. Еще И. С. Тургенев интересовался героиней "Цыган", называл Мариулу возлюбленной поэта.
Приложением к третьему тому "Настольной иллюстрированной энциклопедии" В. В. Битнера, изданной в 1907 году, даны номера "Энциклопедического журнала": в одном из них я обнаружил очерк "Роман Пушкина с цыганкой", написанный по рассказам Екатерины Захарьевны Стампо, которая не раз видела поэта в доме отца в Кишиневе.
Однажды Александр Сергеевич поехал в Долну, а оттуда лесом в Юрчены. Там-то в таборе он и увидел дочь старого цыгана, красота которой поразила поэта. B. 3. Стампо так описывала ее:
"Я прекрасно помню эту девушку; ее звали Земфирой; она была высокого роста, с большими черными глазами и вьющимися, длинными косами. Одевалась Земфира по мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку. Была она, действительно, настоящая красавица".
Пушкин прожил более двух недель в Юрченах.
"По целым дням,- вспоминала Стампо,- он и Земфира бродили в стороне от табора, и брат видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля".
Дальше события развивались, как и в поэме потом. Однажды утром она исчезла из шатра. Бежала в Варзарешты, обиженная ревностью поэта, заподозрившего ее в склонности к молодому цыгану. Страшная весть застала Пушкина уже в Одессе: Земфиру зарезал цыган. В поэме виновником ее гибели выступил не человек, близкий по духу и образу жизни, а пришелец из душных городов. Правда искусства оказалась выше правды действительного случая.
В Юрченах и сейчас могут показать дом, где встречались Пушкин и Земфира...
Долгое время сами цыгане не могли прочитать знаменитую поэму на своем, языке. Лишь в наше время нашелся человек, устранивший эту несправедливость.
Александр Вячеславович Германо (1893- 1955), сын чеха и моравской цыганки, родился под Орлом в селе Старцево-Лепешкино через три месяца после смерти отца, приехавшего сюда в поисках работы. Рос и воспитывался под присмотром матери и старшей сестры Анны. Учился в Киевском коммерческом институте. В 1915 году в сборнике "Орловцы - жертвам войны" напечатал первый рассказ. В 1921 году в Орле выпустил сборник рассказов "Былые зарницы". Писал пьесы, очерки, фельетоны, деятельно участвовал в литературной жизни края. Инсценировал "Песню о Соколе" Горького: спектакль шел около трехсот раз. В 1926 году уехал в Москву и там, выполняя решение Наркомпроса РСФСР, издал алфавит для цыган и сам стал писать на языке Земфиры. Основоположник цыганской письменности, он был автором учебников и пьесы "Жизнь на колесах", исследователем цыганского народного творчества и одним из основателей театра Ромэн". Он же перевел на цыганский язык поэму о трагической судьбе прекрасной Земфиры и другие произведения русского гения.
В сборнике "Цыганские стихи" писал, обращаясь к Пушкину:
Нет, ты не побежден столетием суровым,
Над миром,
как металл, звенят твои слова.
Сердца живых людей
ты зажигаешь словом,
И сам ты жив поэт,
пока
строка
жива.
Стреляла в грудь певца
коварная эпоха,
Свинцом прошла
сквозь все горячие сердца,
И содрогнулся мир
от пушкинского вздоха,
От страшного его,
от раннего конца.
(Перевод Л. Длигача).
Библиофильский комментарий к "Цыганским стихам". Они встречаются очень редко, поскольку вышли перед самой войной и почти весь пятитысячный тираж погиб под бомбами...
Строки созвучны утверждению орловского поэта Александра Астанина, павшего на войне:
Мы сумели отбить у врага пистолет,
Тот, которым был Пушкин застрелен.
Два вражеских нашествия потрясли Орел, и все-таки уцелела такая редкость, как "Новые стихотворения Пушкина и Шавченки", изданные в 1859 году в Лейпциге Вольфгангом в VIII томе "Русской библиотеки".
В год ее выхода в свет Т. Г. Шевченко писал из Петербурга в Дрезден нашей землячке Марко Вовчок, что его не пускают домой и "печатать на дают". Тогда же обратился к ней со стихотворным посланием:
Моя ты зоренька святая!
Моя ты сила молодая!
Гори, сияй и надо мной,
И сердце оживи больное,
Усталое, немолодое...
Страстно мечтал поэт увидеть свои думы напечатанными. Но не могла цензура разрешить к изданию пламенные строки "Заповита":
Поховайте, то вставайте,
Кайданы порвите,
И вражою, злою кровью
Волю окропыте.
Со страниц небольшого, отпечатанного на тонкой бумаге сборника они звучали в лад пушкинским стихам:
Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой!
Сегодня рассуждать задумал я с тобой.
В редакторском слове о произведениях: великого Кобзаря говорилось: "Следующие стихотворения были нам присланы, на малороссийском языке, с примечанием, что стихи Шевченко - выражение всеобщих, закипевших слез, не он плачет о Украйне - она сама плачет его голосом".
Соседство не было случайным. В дневниковых записях Т. Г. Шевченко можно встретить немало сведений, говорящих о го глубоком внимании к творчеству гениального русского поэта. В одном месте он пишет, что "построил каркас поэмы роде "Анджело" Пушкина, в другом - восторгается сценической переделкой "Станционного смотрителя", в третьем - вспоминает, как читал одной знакомой "Сцены из рыцарских времен", а она - "Каменного гостя" и как доволен был "таким теплым, прекрасным окончанием холодно начавшееся дня", в четвертом - рассказывает о гениальном чтении М. С. Щепкиным монолога из "Скупого рыцаря".
Были они братьями по духу, по состраданию к угнетенным, по вольнолюбивым стремлениям. Это, видимо, понимал издатель, поместивший стихи двух великих поэтов рядом.
Однажды, дело было 16 мая 1919 года, писатель Иосиф Каллиников, находясь в родном Орле, купил в магазине "Гаврилиаду" со вступительной статьей и примечаниями Валерия Брюсова. Выпущенная книгоиздательством "Альциона" поэма Пушкина встречалась с читателем второй раз: первое издание 1918 года разошлось в три дня. Каллиников на титульном листе обозначил свое имя и фамилию, указал время и место приобретения книги. Будущего автора антицерковного романа "Мощи", созданного на орловском материале, заинтересовала сильно поэма, уцелевшая в списках. Он берег ее и не решился взять с собой, покидая Орел. Книга хранилась у матери. Ко мне попала из собрания Ф. Я. Студенникова.
Известно, что один из списков был в руках Н. П. Огарева, и он опубликовал его в сборнике "Русская потаенная литература XIX столетия" в Лондоне в 1861 году. Сочинения Пушкина под редакцией С. А. Венгерова 1908 года, роскошно изданные, почти недоступные для народа, содержали текст с пропусками. Лишь в советское время "Гаврилиада" вышла на простор.
Ура! в Россию скачет Кочующий деспот. Спаситель горько плачет, а с ним и весь народ.
Ныне всем известны эти строки пушкинской "Сказки". Не менее знакомы:
Недвижный страж дремал на царственном пороге...
Или:
Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислал своих плодов...
Эти и другие стихи увидели свет в 1859 году в пятой книжке "Полярной звезды", издаваемой А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне. Четвертая книжка 1858 года содержала стихи, которые потом вошли в сборник "Новые стихотворения Пушкина и Шавченки", изданный в Лейпциге.
Обе книжки альманаха неведомыми путями попали в Орел, долго хранились в чьих-то тайниках, в движении через трудные годы потеряли обложки с портретами казненных декабристов, но сохранили в неприкосновенности текст, в том числе - первых публикаций пушкинских строк.
Разные издания Пушкина, дополняя друг дpугa, помогают лучше узнать особенности его жизни и творчества. Хороши богатством комментариев все восемь томов, изданных "Просвещением" в 1896 году под редакцией О. П. Морозова и В. В. Каллаша, прекрасен переплетенный в одну книгу двухтомник для юношества, выпущенный к столетию поэта. Тогда же, в 1899 году, были изданы "Сочинения" в трех томах, с портретом автора и рисунками художников В. А. Серова, А. С. Архипова, А. Н. Бенуа, А. М. Васнецова, М. А. Врубеля, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, К. А. Коровина... Богато иллюстрированный Пушкин!
И все-таки перед этим изданием не теряет своих пленительных достоинств "Иллюстрированная Пушкинская библиотека" Павленкова. У меня - "Полтава", "Повести Белкина", "Евгений Онегин", "История Пугачевского бунта" и "Капитанская дочка", изданные в разные годы и собранные неизвестным мне Я. О. Г. 21 марта 1892 года в один переплет.
Суворинский Пушкин 1903 года в восьми томах не имеет иллюстраций, но он исключительно интересен примечаниями П. А. Ефремова. Из них составлен весь последний том. Мало! Щедрый редактор их рассеял и по другим томам. Особенно повезло письмам поэта. Приведем одно из них: "Когда описывали и опечатывали комнату покойного поэта, то бывший лицеист П. И. Миллер, служивший тогда у Бенкендорфа, взял это письмо "на память" из сюртука, в котором Пушкин стрелялся. Так утверждает П. И. Бартенев, но, невероятно, чтобы Пушкин носил такое письмо в кармане с 21-го ноября по 27-е января или положил бы его в карман, отправляясь на дуэль".
Речь идет о письме Бенкендорфу 21 ноября 1837 года.
Интереснейшие сведения и подробности - на каждом шагу. Когда ко мне стали попадать тома "Сочинений" А. С. Пушкина, изданные в 1881 году Я. А. Исаковым, я охотно нашел им место в своей библиотеке: ведь редактор-то Ефремов! Именно это издание интересовало И. С. Тургенева в сентябре 1882 года, когда он просил прислать ему Пушкина.
Из советских изданий большой радостью стали тома из самого Полного собрания сочинений в 20 книгах, начатого в 1937 году и завершенного справочным томом в 1959-м.
Откроем шестой, в котором 698 страниц, и все занимает "Евгений Онегин": 205 - основной текст, остальное - варианты и примечания. Лучшего издания не было и нет...
Хорош иллюстрациями и примечаниями шеститомник 1937 года, тоже академический, под редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, выпущенный "к столетию со дня гибели". Той же печальной дате посвящено издание отдельными книжечками шести произведений с рисунками с гравюр А. И. Кравченко. В одну коробку-переплет вложены "Каменный гость", "Египетские ночи", "Пир во время чумы", "Медный всадник", "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь"...
Обширна Пушкиниана советского времени. Немало в ней материалов о причинах роковой дуэли, о преследовании поэта. Одна из работ "Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина", изданная в числе трудов Пушкинского дома в 1924 году, принадлежит перу трех авторов: Б. Л. Мод-залевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского.
В книге сделана попытка определить автора анонимного пасквиля, представлены вниманию читателя фотокопии текста условий дуэли на французском языке, приведена запись беседы редактора "Русской старины" М. И. Семевского с графиней Н. А. Меренберг в 1886 году.
"В два часа,- писал Семевский,- посетил графиню Меренберг, рожденную Наталию Александровну Пушкину. Это высокая, видная дама, с каштановыми волосами, синими глазами и с громким голосом. Она очень приветлива в своем обращении.
Вот сущность ее ответов на мои вопросы:
"Я родилась за несколько месяцев до кончины отца, именно весной 1836 г. в Петербурге, где и выросла и жила до 16-летнего возраста. Все, что знаю об отце, это уже по рассказам моей матери. Причины, дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 г. отец мой стал получать беспрестанно.
Едва только друзья его В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский успокоят отца моего,- он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение".
Дочь поэта рассказала, что она часто бывала в доме, где умер отец, издание его сочинений 1838-1842 годов находила небрежным. Запись обрывалась на половине фразы о том, что царь сыновей поэта "записал немедля в пажи"...
Была помещена в книге статья Б. Томашевского "Мог ли иностранец написать анонимный пасквиль на Пушкина?" На основании анализа "диплома" автор приходил к отрицательному ответу.
Поиски главного виновника продолжаются и сейчас. "Временник Пушкинской комиссии" (Л., 1977) поместил интереснейшее сообщение Н. И. Мацкевича "Из неизданных воспоминаний о Пушкине его племянника". Автору публикации попал в руки шестой том из Полного собрания сочиненийА. С. Пушкина 1872 года, принадлежавший ранее сыну поэта Александру Александровичу. Поперек текста многие страницы тома исписал Анатолий Львович Пушкин, племянник поэта. Записи сделаны на английском языке. В записях признание Александра второго, что "двор не мог предотвратить гибель поэтов ибо они были слишком сильными противниками самодержавия". И еще - рассказ о встрече юного А. А. Пушкина с умирающим В. А. Жуковским: "После паузы Василий Андреевич заговорил о закате своей жизни и, пристально всматриваясь в Александра Александровича, сказал, что он имеет сообщить ему нечто более важное, но просит уверить его честным словом, что он никому не скажет об этом. Корнет Пушкин обещал выполнить просьбу, и Жуковский открылся Александру Александровичу, сообщив, что он сам был царедворцем, но чувствовал свою поднадзорность у Бенкендорфа. и боялся его. Сейчас, осознав все это, он открывает истину для потомства, заключающуюся в том, что в смерти Пушкина повинен не только шеф жандармов, но и распорядитель судеб России - государь. Поэт убит человеком без чести, дуэль произошла вопреки правилам - подло".
Правда, к которой когда-то прикоснулся пытливый М. К. Лемке, обогатилась новыми горькими страницами. Горечь той же правды - в статье Б. Л. Модзалевского, опубликованной в январском номере журнала "Былое" за 1918 год, сбереженном одной жительницей Орла.
В статье речь идет, о том, как после ссылки агенты следили за каждым шагом поэта. В одном из приведенных донесений шпик, расставляя знаки, где попало, называл Жуковского Жулковским, а роман "Евгений 0негин" - "Таней". Другой агент вполне разумно предсказывал: "Мысль и дух Пушкина бессмертны. Его не станет в сем мире, но дух, им поселенный, навсегда останется, и последствия - мыслей, его непременно поздно или рано произведут желаемое действие".
Февральский номер "Былого" за 1918 год поведал о надзоре в Михайловском. Как писал А. Шилов в статье "К биографии Пушкина", в июле 1826 года в Псковскую губернию генерал-лейтенант Витт. послал коллежского советника Бошняка для "возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян". Если подозрения подтвердятся, то поэт должен быть арестован и отправлен "куда следует".
Ловкий агент, путешествуя под, видом ботаника, расспрашивал многих, но ничего предосудительного не узнал. Так и вернулся на станцию ни с чем. Пришлось отпустить жандарма. Третьим изданием вышла в 1918 году книга очерков "Дорогие места" под редакцией И. А. Белоусова, поэта и друга И. А. Бунина: Открываем и сразу же попадаем в Захарово - село раннего детства Пушкина, потом в Гурзуф, полный музыки моря и стихов, и, наконец, в Михайловское. очерк "В Пушкинском уголке" рассказывает о встречах с людьми, знавшими поэта.
- Хороший был барин,- рассказывал крестьянин Иван Павлов,- на редкость барин был, да и всяк семья их такая была... Жил он как, спрашиваете? А жил он один: господами не вязался, на охоту не ходил крестьян любил. По ярмаркам, бывало, ходит, соберет старцев - старцами в ту пору нищие-то калеки назывались - ну и заставляет их петь. Слушает, как они поют, в ину пору и сам им подпевал.
Старенькая Акулина Ларионовна вспомнила, как она в детстве с Пушкиным белые грибы в роще собирала. Набрал он целую корзину, да и все их отдал, ей…
Михайловское, Тригорское, Петровское - всe это я увидел впервые, участвуя в Пушкинском празднике 1977 года. Свет его поэзии лежал на всем: на серебристых водах озера и зеленых кронах деревьев, нa тропинках и полянах, на каждом лице радостно-удивленном от свидания с краем, где все звенит его стихами.
В музее под стеклом сразу же бросилось в глаза:
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты...
Я с глубоким волнением подумал о родстве поэзии Пушкина с краем Тургенева и Фета, с городом гения чистой красоты и гения северных дружин, с городом, освобождение которого приветствовала первым салютом Москва, подарившая поэту жизнь.
В день рождения поэта его стихами звенит старинный парк на берегу Оки в Орле. Поэзия Пушкина властно захватывает нас, будит множество воспоминаний, уводит в такой родной мир, что становится невозможным сдерживать волнение. В этом мире блестят на солнце воды Сороти, молодо шумят михайловские сосны, сыплет живыми изумрудами Черное море, гремят пушки Полтавы; и стремительно проносится тень Петра, в буранной степи бредет, охваченный мятежными думами Емельян Пугачев, в глубине долгого зимнего вечера чародейно царит дивная русская сказка...
Звучат стихи. И, словно очарованные ими, замирают в тишине летнего вечера каштаны и клены. Старый дуб с роскошно-царственной кроной, современник Тургенева и Лескова, видевший на аллеях парка Льва Толстого и Ивана Бунина, кажется переселенным сюда из пушкинского лукоморья.
Звучит слово о поэте. И обязательно в этом слове находит место упоминание о встрече А. С. Пушкина и А. П. Ермолова в Орле, яркой звездочкой вспыхивает имя Анны Керн...
Начинает казаться, что совсем недавно, еще вчера, поэт смотрел на этот холмистый берег, на это небо, усеянное облаками, торопливо шагал по земле своих и наших предков, катил в кибитке по весенней дороге на юг.
Радостно думать, что и потомки наши, приняв от нас бережливое и возвышенное отношение к русской классике, будут представлять себе очень недавней известную по книгам встречу в Орле.
Велико очарование словом.