

|
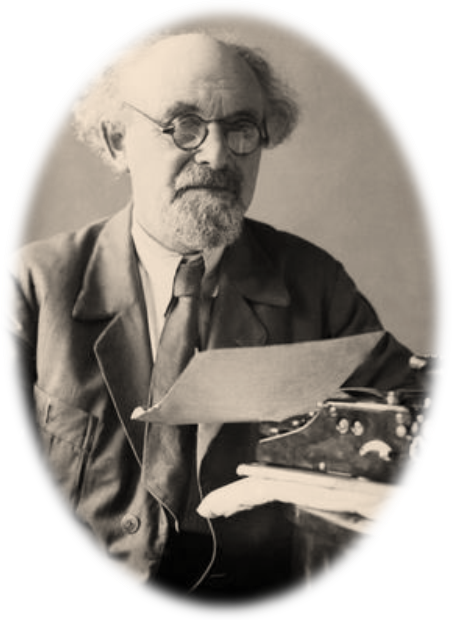
|
Из "Дневников"
24 <декабря 1909 г.> Рел<игиозно>-фил<ософское> собрание. Беседа с Блоком.
Испуг - вот что может служить руководством для определения того момента, когда невозможно слиться со средой... Гармонического писателя нет: все с провалами. Пушкин под конец жизни сгустился и умер естественно, если бы не умер, то пал бы.
30 декабря <1917 г.> ... Сама же Настя (прислуга Ремизова. - А. Р.) белая, в белом платочке, и притом белоруска. Кто-то сказал ей, что Россия погибает. Сегодня она и передает нам эту новость: Россия погибает.<...>
- Неправда, - говорим мы ей, - пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет.
- Как, - спрашивает, - Леу?
- Толс-той.
- Леу Толс-той.
Пушкина тоже заучила с трудом, а Достоевский легко дался: Пушкин, Лев Толстой и Достоевский стали для Насти какой-то мистической троицей.
- Значит, они нами правят?
- Ах, Настя, вот в этом-то и дело, что им не дают власть, вся беда, что не они. Только все-таки они с нами.<...>
Ей очень нравятся стихи, очень!
Как-то на улице против нашего дома собрался народ и оратор говорил народу, что Россия погибнет и будет скоро германской колонией. Тогда Настя в своем белом платочке пробилась через толпу к оратору и остановила его, говоря толпе:
- Не верьте ему, товарищи, пока с нами Леу Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет.
8 сентября <1922 г.> В лучшем случае, если даже мне удастся совершенно очистить свою душу от эгоизма, у меня останется одна тема: Евгений из "Медного всадника".
20 февраля <1928 г.> Достоевский и Гоголь - писатели с воображением; Пушкин, Толстой, Тургенев исходили от натуры. Я пишу исключительно о своем опыте, у меня нет никакого воображения.
28 июля. "Положа руку на сердце" говорю, что никогда не осмеливался думать о беллетристике как о пошлости, хотя все крупные русские писатели, начиная с Пушкина, занимаясь писанием романов, высказывались о романах как о пошлости.
10 января <1929 г. > Простейшие рассказы, к которым влечет меня, - это я понимаю как стремление к делу не для денег или "напоказ", для славы, и еще в этом есть тоже, и, вероятно, самое главное, желание сберечь себя от иллюзорности литературного дела. У наших романистов, начиная с Пушкина, это было в традиции, сочиняя роман, посмеяться вообще над романом, как иллюзией, вероятно, в тайной надежде, что вот мой-то роман, мое слово будет значить, как действительная жизнь. По всей вероятности, так и раскрывается понятие "простота", о которой у нас все сверху и донизу всегда говорят как о чем-то самом хорошем<...>.
Я привык думать, - может быть, я ошибаюсь, - что в русской литературе наметились две линии: пушкинская, в которой поэт, творец формы остается верным до конца своему служению, и другая, в которой он не удовлетворяется служением и выходит из сферы искусства, балансируя между смешным и великим. Кажется, "эстетизм", служение искусству для искусства (1 нрзб.), конечно, из второй "нескромной" линии.
29 апреля. В прежней русской интеллигенции было особенное, тоже сверхвременное чувство цельности человеческой жизни, это чувство увлекало к действию и создавало для всякого такого человека необходимость Голгофы в тюрьме и Сибири. Было ли на этом пути заключено все творчество народа? Едва ли: планета дышала, не считаясь с устремлениями русской интеллигенции, и люди разными путями подходили к постижению иного времени. Все революционеры, начиная от декабристов, смотрели сквозь пальцы на художников: поэты и художники, начиная с Пушкина, были вольноотпущенниками революции.
16 апреля <1932г.> Жизнь человеческая ("вначале бе") начинается делом, и как будто слово кончает все, но сами слова не конец, а скорее мосты, соединяющие концы и начала (культуры): одно пережилось, кончилось, другое рождается, и между ними слово, как мост. Мы все, например, переходим по мосту Пушкина.
23 апреля. Правда писателя должна явиться в образе поэзии, - у большинства писателей не складывается поэзия; другая, меньшая часть ищет поэзии и пользуется правдой жизни, как материалом. Где писатели, под пером которых правда является в образе поэзии и мы видим, что за словами стоит человек, как это было у Пушкина, Гоголя, Достоевского.
23 августа. У Ценского, как и у Андреева, нет юмора, и у Ценского, кажется, еще недостаток в преднамеренности. Толстой и Достоевский не смеются тоже, а Гоголь смеется, Лесков шутит, Пушкин... есть юмор у Пушкина? Должен быть: у Пушкина есть все.
7 сентября <1933 г.> Прочитал Пушкина "История Пугачевского бунта" и "Капитанскую дочку". Наконец-то дожил до понимания "Капитанской дочки" и тоже себя: откуда я пришел в литературу. Утверждение мира в гармонической простоте ("мечты и существенное" - сходятся). Пушкин отсылает своего Онегина и вообще "героя нашего времени" к Пугачеву (Швабрин) и оставляет себе то простое, что есть в "Капитанской дочке". И теперь читаешь и как будто у себя на родине... именно это родина; <...> моя родина, непревзойденная в простой красоте, и что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней доброте и мудрости человеческой, - эта моя родина есть повесть Пушкина "Капитанская дочка".
25 декабря <1936 г.> Слушал оперу "Евгений Онегин" и думал о том образе, которому адресовалось письмо Татьяны, и о том, к кому оно попало: девичьем образе любви; что отними образ, и будет свинство-безобразие; этот образ и есть начальный исток, равно как искусства и рода: в первом случае дитя в искусстве, во втором: дитя и... (как назвать?) жизни (искусство тоже есть жизнь) или в роду (дитя искусства и дитя рода человеческого).
Долг Татьяны (жизнь со стариком) вышел из первообраза, как у меня в "Жень-шене": сложилась жизнь: жизнь течет и жизнь складывается, но сила первого образа остается там и тут.
4 февраля <1937 г.> Пушкиным я никогда не занимался, потому что всегда казалось, что Пушкин - это именно то, что "само собой разумеется".
Одна из самых выразительных особенностей восприятия природы, которую все замечали у меня, - это природа в движении, "фенологическая", конечно, происходит от Пушкина, который очень любил сезоны. Вспоминаю, что именно "Евгений Онегин", роман, написанный так, что автор дал мне мысль написать "Кащееву цепь" в двух планах: герой действует, а переживания самого, в себе этого героя автор судит. В особенности же в Пушкине близка мне простота, которая ему как будто врожденна, а нам приходится ее достигать. Об этой простоте все знают, и в то же время очень трудно сказать, в чем именно она состоит. Что она значит? Народная простота. В декадентском кружке это называлось кляризмом (ясностью), у Достоевского, для которого пушкинская простота была недостижимой звездой, называлась целокупностью.
Мне это лучшее пушкинское, когда я думаю о Пушкине, что художник есть такой человек, который сохранил в душе своей себя, как ребенка, и может по-своему (1 прзб.) смотреть на мир (2 прзб.) тем первым младенческим взглядом и потом пропускать свой материал через всю сложность взрослого, мыслящего человека. Чем больше сохранится этот младенец, тем больше в творце простоты, целокупности, ясности. Я не говорю, что литератор должен быть прост: Гоголь, Достоевский не простые писатели, а гениальные. Но и Гоголь и Достоевский с наслаждением забросили бы всю свою гениальность, если бы могли. "Я" Пушкина - это "мы", и не хочется говорить от своего имени без стыда, надо учиться у Пушкина простоте.
19 марта. Если взять словесное искусство, то Пушкин - Толстой характерны радостью жизни, которой закрыта личная трагедия: мы видим готовую вещь, совершенством которой закрылась личная трагедия мастера.
19 октября. У Пушкина говорится о двух единственных ценностях: воля и покой.
30 декабря. Перечитал по-новому речь Тургенева при открытии памятника Пушкину. Как хорошо! И куда все девалось!И еще что "простой народ" ни в какой стране не читает своих гениев. Теперь в этом вся закавыка. Мы не знаем, кому мы книгу даем и что из этого выйдет. Не в писателе дело теперь, - довольно написано! - а в читателе.
18 марта <1938 г.> "Медный Всадник" и "Анчар": у раба должны быть другие идеалы, чем у царя, - в чем они, что сказал Евгений Медному Всаднику?
7 апреля. Писатель пишет, даже величайший Пушкин
- и то мало читателю, что он пишет: ему до страсти хочется самого Пушкина в лицо посмотреть. Кажется, ведь это же именно сам Пушкин в лучшем его составе, как автор "Медного Всадника", а нет! Пусть в лучшем-разлучшем, а хочется именно на того Пушкина поглядеть, какой он есть.
8 апреля. Вооруженное восстание офицеров (Николай I): пять человек повешены, и Пушкин чуть с ума не сошел от гнева ("Пророк"): что же было делать Николаю?
Говорят: обмануться, но, может быть, на самом деле это значит как раз очнуться от сна, который называется правдой.
Иначе, как объяснить иллюзии и сны о свободе Пушкина в отношении их к "правде" царя Николая I: разве как глава государства Николай был неправ, что он казнил пять человек из офицеров, выступивших с оружием в руках против государственного строя, который они обязаны были защищать? И тем не менее мы сочувствуем до сих пор Пушкину, потрясенному той казнью, назвавшему того царя убийцей. И особенно остро это сочувствие поэту в наши дни...
Медный Всадник - "он", государство, Евгений - "я", душа, мы, и, конечно, в перспективе будущего "ужо!", Евгений прав: он пророк; так что "Всадник" - это настоящее, это необходимость, власть, "он", "они"
- это берега, а Евгений - вода текущая...
29 июня. Медного Всадника и Евгения можно понимать как спор между горделивой формой и смиренной материей, за счет которой эта форма создается.
8 июля. Так написать для детей дошкольного возраста, с такой строгостью, чтобы на весу было каждое слово и в то же время взрослые читали эту книгу с таким же высоким эстетическим удовлетворением, как читают фольклор. Удастся ли это автору - я не знаю: сколько-нибудь удастся, в литературе сознательные попытки никогда не пропадают даром. Удастся немного ему, удастся немного мне, и, наконец, кто гениален, увидит и скажет: да это же путь! Тогда исчезнут все эти имена, все эти dii minores (Букв, "меньшие боги", т.е. творцы второстепенные (лат.) в одном большом имени, как исчезло много значительных поэтов в имени Пушкина.
30 января <1939 г.> Потихоньку про себя я уже который год разрабатываю одну и ту же тему "Медного Всадника": "дело из разума" - есть Медный Всадник; дело из сердца "личность" есть Евгений.
16 июня. "Я" - это все, что мог бы сказать Евгений Медному Всаднику. Всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких людей. Часто эти близкие живут на таких отдаленных окраинах мест и времени, что без помощи книги, картины или звука никогда бы не могли друг друга узнать. Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому.
Поэт, как женщина, в жизни чувствует себя невольником, одна и та же судьба, вот почему поэт везде вступается за женщину.
19 июля. Евгений и неизреченное слово, которого именно-то и боятся все властелины. В том-то, может, и есть сила Евгения, что его проклятие не переходит в слово, и Евгения единственного нельзя изловить, соблазнить, использовать. Не словом, а бурей разряжается его мысль, и у Властелина "мальчики кровавые в глазах". Евгений - это "народ безмолвствовал", а дела Бориса кажутся ему самому суетой. Евгений - это Смерть, хранящая культуру, укрывающая великие памятники духа под землю, чтобы они вставали потом и судили победителей.
Так что и очень хорошо, что речь Евгения была не напечатана: вероятно, у Пушкина это было бы плохо, это сильно в молчании, страшно, как вопрос делу Петра, вопрос молчания.
И так ясно, что все эти немые вопросы разрешаются фактом распятия.
10 апреля <1947 г.> Медный Всадник (Надо) есть образ безличный, образ человеческой необходимости, через который должен пройти каждый человек и сама стихия. Он прав в своем движении, и не он будет мириться, а с ним будет мириться "стихия" путем рождения личности.
Итак, "да умирится же с тобой и покоренная стихия" означает рождение личности. И, значит, Евгений (как тоже и еще сильнее Филемон и Бавкида) является нам как вестник наступающих родовых мук. И окончательное решение этой борьбы Хочется и Надо в пользу Хочется с воскрешением Евгения и Филемона с Бавкидой <...> есть явление света в темной борьбе, выход свободной личности из недр необходимости.
Примирение состоит в том, что личность приносит с собой новое измерение всех ценностей, создаваемых Медным Всадником. Примирение в том, что то, прошлое измерение было необходимо. Примирение заключается в улыбке личности и, может быть, в осторожно, шепотом и любовно сказанных словах: "Мы говорим на разных языках". И окончательно: "Любите врагов своих".
19 мая. Личность Евгения в "Медном Всаднике" и все другие бесчисленные подобные случаи возбуждают в нас чувство жалости к личной судьбе людей, приносимых в жертву "большому делу".
4 июня. Маленького преступника судят за то, что он переступил черту закона, ограждающего право другого человека, имея в виду свой личный интерес. Если же преступник не для себя перешел за черту, а чтобы создать новый лучший закон, отменяющий старый, и победил, то победителя не судят: победитель несет с собой новый закон. Маленький человек старого закона несправедливо погибает (Евгений из "Медного Всадника") при этой победе или, широко открыв глаза, прозревает будущее и становится на сторону победителя (апостол Павел).<...>
Законы природы - это законы размножения, а законы человека - это законы личности.
Евгений жил, как природа, в естественных законах размножения (у него была невеста). Пришел Медный Всадник, строитель, и его вода затопила невесту Евгения. Жили милые люди Филемон и Бавкида, пришел Фауст строить канал, и невинные люди погибли.
30 сентября <1950 г.> Я не вижу ни одного поэта, включая Шекспира и Пушкина, кто мог бы помириться с жизнью вне своего творчества.
9 апреля <1951 г.> Бывает, весенняя вода прорвет плотину, смоет мостки, и останутся от всех мостков одни только колышки, и они-то бывают мерой того, как глубоко когда-то стояла вода. Так и памятник Пушкину остается мерой, до какой высоты может доходить полнота человеческой жизни.
13 апреля. Поэзия не подчиняется планированию (об этом сказано у Пушкина в сказке о золотой рыбке).
5 октября. Растения мы можем понимать по себе в исключительных случаях вроде того, как у Толстого кн<язь> Андрей, влюбленный в Наташу, понял зеленеющий дуб или как Пушкин понял в молодых соснах новое племя и послал в стихах ему свое человеческое "здравствуй!".
20 марта <1952 г.> В молодости я долго не понимал, как такие удивительные, небывалые существа Пушкин и Лермонтов, такие отрицатели и беззаконники, рабски тяготеют к условностям аристократического круга и в исполнении их трагически погибают.
Теперь я понимаю это как естественное влечение небывалого к воплощению, к признанию, к пониманию. И кажется на первых порах, что это признание легче всего осуществимо в той среде, откуда он сам вышел. В случаях Пушкина и Лермонтова это тяготение к бывалому разрешается трагически.
29 марта. С какой надутой гордостью X. сказал:
- Мы принимаем Пушкина. Почему бы не спросить его:
- А примет ли Пушкин нас таких?
Знаю, он примет, но хорошо бы таким словом нос утереть дураку.
14 апреля. Обиду нельзя стереть усилием воли, ее можно стереть кулаком или легкомыслием. Всякое усилие порождает Сальери.
2 июня. Мне сейчас хорошо пишется, и я понимаю себя как Григория Отрепьева в келье на послушании у старца Пимена. Мне, как Григорию, самому хочется выкинуть небывалую штуку: так заточить свою фразу, чтобы она была острее всех пик. Но я смотрю на Пимена и понимаю, что не нужно мне оттачивать свою пику, чтобы стать лучше всех и преднамеренно выставляться. Напротив, я напишу, как все говорят между собою. <...>
11 июня. От одного отца я родился; таким, как я теперь сделался за всю свою жизнь, - я многим отцам обязан, и среди них Пушкин. Когда мне удается написать такое, чему я обрадуюсь, я это показываю мысленно Пушкину, и случалось, в мечтах моих Пушкин меня обнимал.
14 апреля <1953 г.> Простой русский народ за время революции неузнаваемо поумнел и скоро должен хорошо устроиться. Будет много хороших поэтов, но только таких, как Пушкин, не будет.
© М.М.Пришвин, наследники, 1986, 1999