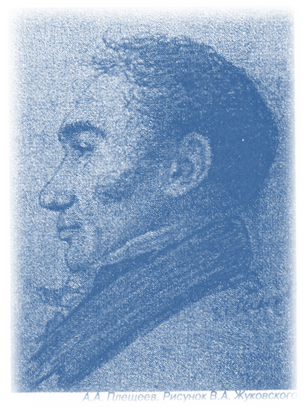В предисловии к книге Л. А. Иерейского "Современники Пушкина" утверждается: "Документальные материалы сохранили нам сведения о 2500 лиц, с которыми общался поэт в течение своей непродолжительной жизни. Это родственники, наставники и товарищи по лицею, московские и петербургские литераторы и артисты, чиновники, офицеры, иностранные дипломаты... Окружение поэта органически входит в его биографию и творчество"...
Среди тех, с кем Александр Сергеевич поддерживал отношения, было немало людей, связанных с историей орловского края. Это, прежде всего, его четвероюродный брат З.Г. Чернышев, его любимый лицейский учитель А.И. Галич, член литературного общества "Арзамас", композитор и театрал А.А. Плещеев, член литературно-политического объединения "Зеленая лампа", орловский прокурор А.А. Токарев, герой Отечественной войны 1812 года Н.И. Кривцов, уроженка Орла Анна Керн, знаменитый полководец А. П. Ермолов, выдающийся скульптор Б. И. Орловский.
1. "Наставникам, хранившим юность нашу..."
В издаваемом А. Дельвигом литературном альманахе "Северные цветы" за 1827 год впервые увидело свет пушкинское стихотворение "19 октября". Это своего рода перекличка поэта со своими одноклассниками, приуроченная к очередной годовщине со дня основания Царскосельского лицея. Вспоминая о своих преподавателях, Александр Сергеевич нашел удивительные слова:
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всей честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
Одним из самых любимых наставников поэта был выдающийся философ-идеалист, психолог и эстетик, профессор российской и латинской словесности Александр Иванович Галич. Родился он в 1783 году в городе Трубчевске Орловской губернии в семье малообразованного дьячка Ивана Говорова. По обычаю, принятому в духовном сословии, свою фамилию он переменил в Севской семинарии на Никифорова (производная от имени деда), а поступив в Санкт-Петербургский педагогический институт, стал Галичем.
В 1808 году наш земляк был отправлен в числе лучших студентов за границу для приготовления к профессорской кафедре. Два года спустя он обосновался в Геттингене, где всерьез заинтересовался учением яркого представителя немецкого классического идеализма Ф. Шеллинга. Как тут не вспомнить пушкинские строки: "...с душою прямо геттингенской" или "Он из Германии туманной привез учености плоды..."
В 1813 году конференция педагогического института одобрила диссертацию Галича и признала его достойным занять кафедру философии. Около семи лет преподавал он в институте и в основанном на его базе университете историю философии, этику, метафизику, психологию и логику. Одновременно, с мая 1814 до июня 1815 года, Александр Иванович состоял преподавателем в Царскосельском лицее. Он успешно поддерживал созданную своим предшественником профессором Н. Кошанским атмосферу увлеченности лицеистов литературой.
По воспоминаниям одного из лицеистов, уроки Галича "обратились в непринужденные и часто веселые беседы с воспитанниками, которые даже не оставались на своих местах, а окружали толпой кафедру снисходительного лектора, в свободные же часы дружески посещали его в отведенной ему комнате".
По свидетельству выпускника лицея мемуариста А.В. Никитенко, Пушкин "особенно полюбил молодого философа, который не истязал ни его, ни товарищей склонениями и спряжениями и был умен, весел и остроумен, как сам талантливый поэт". После ухода Галича из Лицея Пушкин посвятил ему два послания, оба были напечатаны в 1815 году в журнале "Российский музеум".
В стихотворении "К Галичу" ("Пускай угрюмый стихотвор...") автор смиренно просит своего учителя:
О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливый,
Под отдаленный неги кров... Тепло и сердечно беседует со своим наставником юный поэт и во втором "Послании к Галичу" ("Где ты, ленивец мой?.."). Лицеистам грустно без прежних "дружеских собраний" и "шумных бесед", которые теперь "не столь оживлены". Они мечтают вновь нагрянуть в "милый, тесный дом" преподавателя, чтобы "снова каждый день стихами, прозой" прогонять "печали тень".
Автор отвергает самую мысль о том, что Галич способен возвеличивать "в куплете заказном" какого-нибудь креза.
Нет, добрый Галич мой,
Поклону ты не сроден.
Друг мудрости прямой
Правдив и благороден... Годом раньше Пушкин упомянул Александра Ивановича в стихотворении "Пирующие студенты", пародирующем форму популярного "Певца во стане русских воинов" Жуковского. Стихотворение при жизни не печаталось, но получило широкое распространение в лицейской среде (латинское слово означает "будь здоров").
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам...
Надолго запомнил Пушкин выражение Галича, который, начиная лекцию о древнегреческом поэте Гомере, сказал: "Пора потрепать старика". В самом конце второй главы "Евгения Онегина", написанной в 1823 году, читаем:
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!
Любопытно, что и другой ученик Александра Ивановича, поэт В. Кюхельбекер, находясь за свои декабристские убеждения в арестантских ротах Свеаборгской крепости, записал 2 февраля 1832 года в дневнике: "Примусь опять за Гомера: пора, - как говаривал Галич, - потрепать старика".
В 1817 году наставник Пушкина становится экстраординарным профессором, через два года занявшим кафедру философии во вновь открытом столичном университете. В образованных кругах русского общества едва ли не сенсацию произвел его монументальный труд "История философских систем", вышедший в это время. Ко второй книге был приложен "Опыт философского словаря" из 217 терминов. В ней Галич просто и доступно впервые изложил основные положения "философии тождества" Шеллинга.
Автор был удостоен высочайшей благодарности. Однако это не помешало в 1821 году, во время так называемого "дела профессоров", усмотреть в его сочинении "безбожное и вредное направление". Ему предложили переиздать книгу, а в предисловии к ней отречься "от мнимого просвещения, на лжеименитом разуме основанного". Молчание Галича было истолковано как знак согласия, и он, сохранив профессорское звание, остался при университете, но без права преподавания.
Гонение на бывшего учителя и его коллег не осталось незамеченным великим поэтом. В стихотворении "Второе послание цензору", распространявшемся в списках, он дал достойную отповедь министру народного просвещения и духовных дел А. Голицину, который "в угодность Господу, себе во утешенье, усердно задушить старался просвещенье". Должное получили его помощники, "в чьи пакостные руки" были "вверены печальные науки". Среди них назван и директор университета "Кавелин-дурачок, креститель Галича, Магницкого дьячок". Последний - один из главных представителей официального мракобесия, а Кавелин назван "крестителем Галича", потому что водил его в церковь, где его кропили святой водой и читали над ним молитву.
Попытки Александра Ивановича открыть в университете кафедру древностей и теории изящного не увенчались успехом. Пришлось читать платные лекции на дому. Побывав на одной из них, А.В. Никитенко делится своими впечатлениями на страницах дневника: "Как жаль, что этот отличный профессор лишен своей кафедры в университете: у нас нет ни одного подобного ему. К Галичу прежде всего имеешь доверие, ибо видишь, что он обладает обширными познаниями. Изложение его определенное: он выражается ясно и благородно. Его одушевляет чистая, высокая любовь к истине, отчего беседы не только полезны, но и увлекательны. Это не цеховой ученый, а человек, глубоко преданный науке и жаждущий правды, столько же практической, сколько и теоретической".
Далее будущий биограф Галича сообщает весьма характерный для него факт: "Зная, что мне не под силу заплатить ему за курс 300 рублей, как платят другие его слушатели, он предложил мне посещать его лекции бесплатно".
В1825 году отдельным изданием в столице вышел трактат Галича по эстетике "Опыт теории изящного". В предисловии автор отметил: "Цель его есть та, чтобы возбудить деятельное соревнование в успехах науки, которая... утратила до известной степени свою именитость не сама от себя и не столько даже от зложелателей, сколько от немощного усердия слепых приверженцев... Кто же чувствует себя в силах сделать что-либо лучше другого, тот сие лучшее сделать и обязан".
В своей работе наш земляк первым в России сформулировал идеи о красоте как единстве истинного, доброго и "приятного", выдвинул понятие художественного идеала как чувственного образа идеи, дал философски обоснованную классификацию искусств и литературных жанров.
Наше представление о преподавателе великого поэта будет сильно обедненным, если не сказать о выходе в 1834 году в типографии Императорской Академии наук книги "Картина человека" с престранным подзаголовком: "Опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанный А. Галичем". Эта книга чрезвычайна важна для истории русской психологии. В ней обозначится отход автора от шеллигианства к философскому антропологизму. Он получил за нее половинную Демидовскую премию.
В том же году состоялась, видимо, последняя встреча Пушкина и Галича. 16 марта 1834 года поэт принял участие в многолюдном совещании учредителей "Энциклопедического лексикона" (словаря) А.А. Плошара. На следующий день Пушкин записал: "Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои "Воспоминания о Царском Селе". Так Пушкин через 17 лет после окончания лицея подтвердил исключительную роль Галича в своей литературной судьбе.
Наставнику суждено было на одиннадцать лет пережить своего великого ученика. Последние годы жизни даровитого философа, психолога и эстетика омрачились сильной нуждой и семейными неурядицами. В пожаре погибло его имущество и полностью подготовленные к печати рукописи двух книг.
Работая начальником ведомственного архива, Александр Иванович нашел в себе силы для составления первого отдельного отечественного "Лексикона философских предметов". Издание, охватывающее буквы А-Вк, вышло в свет в 1845 году.
Три года спустя, 9 сентября, Галич скончался от холеры в Царском Селе, последнее пристанище он обрел на Казанском кладбище. Почти через 180 лет в древнем русском городе Трубчевске на фасаде Дома учителя в память о любимом наставнике великого поэта была установлена мемориальная доска.
2. "О дивный Арзамас..."
Среди пушкинских знакомых особое место занимает композитор, виолончелист, театральный деятель, поэт-дилетант и чтец-декламатор Александр Алексеевич Плещеев (1778 - 1862), с которым Пушкин познакомился на заседаниях литературного общества "Арзамас".
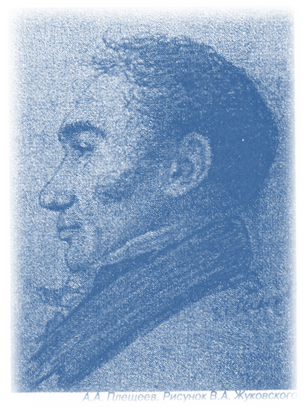
|
Из лиц пушкинского окружения, с которыми Плещеев общался всю жизнь, отметим Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского, сыгравших, как известно, исключительную роль и в судьбе великого поэта. Ближайший друг родителей Плещеева, особенно Настасьи Ивановны, Карамзин несколько лет прожил во флигеле их московского дома, а летом часто и подолгу гостил в их орловском поместье в деревне Знаменское. Супругам Плещеевым посвящены "Письма русского путешественника".
Настасья Ивановна (в девичестве Протасова) основательно занималась вопросами народного образования, открыла в Волхове уездное начальное училище, почетным попечителем которого на многие годы станет ее сын Александр. Великий историк, женатый на его тетке Елизавете Ивановне, обратился к нему с поэтическим посланием, в котором есть слова, ставшие крылатыми: "Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно".
В1798 году юнкер при коллегии иностранных дел Александр Плещеев женился на графине Анне Ивановне Чернышевой, бывшей фрейлине Екатерины II. Выйдя в отставку, он прочно обосновался в болховском имении жены в селе Большая Чернь, которое скоро превратилось в культурный и художественный центр в уезде. Особенно после того, как Плещеев близко сошелся с жившим по соседству (в селе Муратово того же уезда) будущим автором "Певца во стане русских воинов" и баллады "Светлана". Слава о чернском домашнем театре, для которого писал выступавший на его сцене Жуковский, разнеслась далеко за пределы Орловской губернии.
Один из первых биографов Жуковского так охарактеризовал его соседа и друга: "Страстный любитель музыки, игравший на виолончели, он перелагал на ноты романсы, которые отлично пела сама Анна Ивановна Плещеева. На домашнем его театре представлялись комедии и оперы, им самим сочиненные и положенные на музыку. Плещеев, обладая прекрасным талантом читать и играть драматические сочинения, руководил театральными представлениями с редким искусством..."
Александр Алексеевич первым из композиторов обратил внимание на исключительную музыкальность произведений Жуковского, которую Пушкин впоследствии назовет "пленительной сладостью".
Композитора и поэта объединяли также "сокровища веселости, смешливости" (выражение Вяземского). Плещеев поражал всех своим искусством подражать голосу и походке знакомых людей. Это он с успехом продемонстрировал в созданном Жуковским литературном обществе "Арзамас", куда поэт ввел его в 1817 году.
Задачей общества, объединившего сторонников "карамзинского" направления в литературе, являлась борьба с консерватизмом "Беседы любителей русского слова", оберегавшей русский язык от всяких "новшеств". Юный Пушкин в 1816 году, еще не будучи формально членом "Арзамаса", в своем послании "К Жуковскому" критиковал "шишковистов", которые "слогом Никона печатают поэмы".
Все арзамасцы носили прозвища, заимствованные из баллад Жукове ко го. Смуглолицый, курчавый и толстогубый Плещеев был окрещен Черным Враном, а Пушкин - Сверчком. Свою вступительную речь начинающий поэт произнес в стихах: "Венец желаниям. Итак, я вижу вас, о други смелых муз, о дивный Арзамас..." А Плещеев написал для общества музыкальный "Устав столовый" на слова Вяземского.
Близость Плещеева с недавним лицеистом закрепилась 4 сентября 1817 года, когда они вместе с Жуковским и К. Батюшковым сочинили в Царском Селе два коллективных шуточных экспромта "Писать я не умею..." и "Вяземскому". Оба обращены к поэту Вяземскому, собиравшемуся на место новой службы. Девять дней спустя Батюшков извещает Вяземского: "В Арзамасе весело... Плещеев смешит до надсаду".
После распада шишковской "Беседы" прекратил свое существование и "Арзамас", но знакомство Плещеева с Пушкиным продолжалось. Об их встрече в 1819 году в салоне Олениных говорится в мемуарах вдохновительницы одного из пушкинских шедевров "Я помню чудное мгновенье" орловчанки Анны Керн.
По свидетельству историка и этнографа Н.А. Маркевича, многолетнего знакомого поэта, в либретто оперы Плещеева "Аника и Парамон" Александр Сергеевич исправил куплеты. В доме композитора-орловца поэт читал "Руслана и Людмилу" в тот исторический день 26 марта 1820 года, когда Жуковский подарил ему свой портрет с надписью: "Победителю-ученику от побежденного учителя..."
Общение Плещеева с Пушкиным возобновилось после возвращения поэта из ссылки в Петербург. В июне 1827 года они дважды встречались у Карамзиных.
Заслуживает внимания публикация 18 декабря 1916 года в газете "Орловский край" о том, что по пути из Волхова в Орел, в мае 1829 года, Пушкин останавливался в селе Большая Чернь у Петра Плещеева, с которым благодаря Жуковскому поэт "быстро сошелся". Документы, подтверждающие этот факт, сгорели вместе с сочинениями и письмами Плещеева-отца. Но семейные предания остались.
3. "Горишь ли ты, лампада наша?.."
(по новым архивным материалам)
Биографические и творческие контакты Александра Пушкина со многими первенцами свободы были так прочны, что Музей декабристов в Москве открылся обширной выставкой "А.С. Пушкин и декабристы". Посетители музея были поражены обилием рукописей и прижизненных изданий великого поэта, личных вещей героев 14 декабря, других реликвий.
Отрадно, что в декабристском окружении автора "Евгения Онегина" находилось несколько человек, причастных к истории нашего края. В музейной экспозиции нашли отражение портреты поэта и героя Отечественной войны Ф.Н. Глинки, сосланного на три года в Орел, и одного из вождей Северного общества, автора известной конституции Н.М. Муравьева, арестованного в селе Тагино (ныне Глазуновского района). Большой интерес вызвали список грибоедовской комедии "Горе от ума", сделанный А.И. Черкасовым, состоявшим под секретным надзором в Малоархангельском уезде, а также шкатулка и бумажник видного члена первых политических обществ И.Д. Якушкина, неоднократно бывавшего в Орле и Ливнах.
В одном из залов приведен отрывок из письма лицейского друга поэта И.И. Пущина к выпускнику Орловской духовной семинарии С. М. Семенову: "Случай удобен: ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов..." Двумя портретами представлен там четвероюродный брат поэта декабрист-орловец З.Г. Чернышёв.
Автограф пушкинского стихотворения "Во глубине сибирских руд..." помещен под портретом его сестры А.Г. Муравьевой, доставившей призыв поэта в "каторжные норы" политических узников. Особое внимание посетителей привлек ее платок, на котором дочерью нашей землячки вышит полный текст леденящих душу условий, которые она подписала, направляясь к томящемуся на сибирской каторге мужу.
С кем же еще из декабристов-орловцев, кроме представленных в музее, общался великий поэт? В послелицейский период, на заседаниях литературно-политического общества "Зеленая лампа", он познакомился с членом Союза Благоденствия Александром Андреевичем Токаревым. Общество, являющееся вольным филиалом Союза Благоденствия, просуществовало с марта 1819 до весны 1820 года.

|
Биографические сведения о Токареве крайне скудны. Так, академический справочник "Декабристы" уделил ему всего семь строк, чуть больше - словарь пушкинского окружения Л. Черейского. В этих авторитетных изданиях лишь говорится, что он в конце жизни был орловским губернским прокурором, вследствие чего автор этих строк не решился включить его в книгу о декабристах - уроженцах нашего края "Заступники свободы".
Позднейшие, главным образом архивные, разыскания показали, что орловское прокурорство Токарева не было случайным явлением, а его самого следует причислить к декабристам-землякам. Выяснилось, что его отец корнет А.И. Токарев в 1787 году являлся свидетелем при оформлении П.А. Ермоловым (отцом будущего генерала) купчей на орловскую деревню Вепринцево.
Любопытно, что в мае 1799 года за отца Токарева, оставившего военную службу, перед министром юстиции ходатайствовал известный государственный деятель наш земляк Ф.В. Ростопчин. Просьба влиятельного графа возымела действие, и 1 июня того же года последовало распоряжение орловскому губернатору И. Вульфу (деду воспетой Пушкиным орловчанки Анны Керн) подготовить представление в сенат о помещении "на открывшуюся в городе Орле городническую вакансию" коллежского асессора Токарева.
Не приходится сомневаться в том, что его определение состоялось. Один из документов, датированных 1800 годом, подписан городничим Андреем Токаревым. Ему и его супруге Екатерине Михайловне принадлежали деревня Новая Слободка Орловского уезда и 11 душ мужского пола в городе Севске нашей губернии.
Год рождения Токарева-младшего не установлен. В 1807 году он имел чин майора и служил в Тифлисском мушкетерском полку. Видимо, получал боевые награды, если был включен в Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличия кавказских войск.
В ноябре 1809 года Токарев приобрел у капитан-лейтенантши П. Львовой небольшое имение (49 душ), находящееся в новопоселенной деревне Слободке Орловской губернии. К началу Отечественной войны Александр Андреевич служил в нашем городе губернским секретарем.
В августе 1812 года он обращался в губернское правление с просьбой под залог собственного имения снять запрещение на продажу отцовской деревни Новая Слободка. В противном случае отцовская усадьба, которая за неуплату долга должна была перейти новому владельцу, не может быть с его согласия продана.
Затем в жизни Токарева начался петербургский период. В 1816 году он состоял секретарем при главном директоре столичных императорских театров. В ноябре следующего года Дирекция театров уволила "с произвождением по смерть пенсиона" фигурантку (танцовщицу) Анну Токареву, проработавшую в ней 12 лет. Можно предположить, что речь идет о жене или дочери декабриста, который в то время продолжал занимать прежнюю должность.
Насыщенным для него выдался 1819 год. Помимо принадлежности к одной из ранних декабристских организаций, Токарев был членом "Зеленой лампы" ("побочной управы" Союза Благоденствия) и Санкт-Петербургского английского собрания. Кроме того, он с помощью членов Союза Благоденствия Ф. Глинки и Я. Толстого основал в столице вольное "Общество добра и правды". В него вошли прапорщик Кашкин, князь Е.Оболенский, поэт и критик П. Катенин и воспитанник Орловской семинарии титулярный советник С. Семенов.
Душой этого общества стал наш земляк, подготовивший его Уложение. Цель новой организации заключалась, по словам Я. Толстого, в "искоренении зла в государстве", в изобретении новых правительственных постановлений и проектов освобождения крестьян, в "сочинении новых конституций, приспособленных к нравам и обычаям народа". После перевода Александра Андреевича в Орел губернским прокурором учрежденное им общество распалось.
И Пушкин, и Токарев входили в общество "Зеленая лампа", названное так по зеленой лампе, висевшей в комнате собраний и обозначавшей "свет и надежду". Собрания происходили раз в две недели на квартире Н. Всеволжского, а в его отсутствие у Я. Толстого, адресата пушкинских писем и стихотворений. В "Зеленой лампе" насчитывалось более двадцати человек, половина которых упомянута в знаменитом "Алфавите декабристов". Среди них такие общеизвестные имена, как Трубецкой, Глинка, Каверин и Дельвиг.
Будучи членом филиала Союза Благоденствия, Пушкин, говоря словами академика М.В. Нечкиной, "был объединен с декабристским движением не только идейно, но и организационно". Члены "Зеленой лампы", как и члены Союза Благоденствия, должны были давать торжественное обещание в сохранении тайны; давал эту клятву и Пушкин".
Состоялось не менее 22 заседаний, на которых занимались обсуждением театральных событий и чтением своих произведений, как совершенно аполитичных, так и "республиканского" содержания. В очерках публицистического характера пропагандировалась, например, английская конституция. Пушкин, конечно, читал здесь свои вольнолюбивые стихотворения, такие как "Деревня" и "Кинжал".
Сосланный в 1820 году на юг, Александр Сергеевич далеко не сразу узнал о распаде общества. В начале следующего года, когда Токарев снова служил в Орле, он написал большое стихотворение "В кругу семей, в пирах счастливых...", оставшееся незавершенным. Обращено оно к "Зеленой лампе":
Горишь ли ты, лампада наша, Подруга бдений и пиров?.. Эти строки поэт включил и в свое послание к Я. Толстому.
Так как Токарев был поэтом-дилетантом и выступал на заседаниях общества с чтением собственных стихотворений, то нижеследующие строки из пушкинского обращения были косвенно адресованы и нашему земляку: Услышу ль я, мои поэты, Богов торжественный язык? Дом Всеволжских, этот "приют гостеприимный, приют любви и вольных муз" Пушкин намеревался вывести в неосуществленном романе "Русский Пелам", над которым работал в 1834-1835 годах.
А видного члена "Зеленой лампы" и декабриста Александра Токарева к тому времени уже давно не было в живых. Он недолго проработал орловским прокурором, скончавшись в 1821 году, за четыре года до восстания декабристов. Однако Следственный комитет даже в январе 1826 года запрашивал у арестованного поэта К. Рылеева, принадлежал ли к Тайному обществу майор А.А. Токарев, а активный участник восстания на Сенатской площади Е. Оболенский, зная о его смерти, заявил, что в "Общество добра и правды" был зачислен нашим земляком. Следственный комитет установил, что он принял и в Союз Благоденствия несколько членов.
4. "Душе настало пробужденье..."
Известная мемуаристка, адресат пушкинских писем и лирического шедевра "Я помню чудное мгновенье...", Анна Петровна Керн (урожденная Полторацкая, во втором браке Маркова-Виноградская) была на год моложе Александра Сергеевича.
"Я родилась в Орле, - сообщала она в воспоминаниях о своем детстве, - в доме моего деда Ивана Петровича Вульфа, который был там губернатором. Мне и теперь случалось встречать старожилов, вспоминающих о нем с благоговением, как о высокой и благодетельнейшей личности... Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11 -го февраля 1800 года..." (22 февраля по н. ст. - В.В.).
Семнадцати лет Анна по воле отца была отдана замуж за генерал-лейтенанта Е.Ф. Керна. Герой Бородина и сражения при Вязьме, получивший четыре ранения, он увековечен в "Военной галерее Зимнего дворца". Но Ермолай Федорович был на 35 лет старше своей юной жены, и для нее замужество оказалось несчастливым.
Зимой 1819 года в столичном доме президента Академии художеств А.П. Оленина (мужа родной тетки Анны Петровны) произошла первая ее встреча с Александром Пушкиным. Занятая игрой в литературные шарады, в которой участвовали знаменитый Крылов и композитор-орловец А. Плещеев, она не сразу обратила внимание на Пушкина, который, однако, "вскоре дал себя заметить". "Когда я уезжала, - вспоминала Керн, - и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами..."
Прошло без малого шесть лет, прежде чем они увиделись снова. Летом 1825 года Анна Петровна находилась в селе Тригорском, псковском имении друзей своей тетки - П.А. Вульф-Осиповой. Живший в то время по соседству в Михайловском Александр Сергеевич был постоянным гостем владелицы Тригорского, где, по утверждению А.И. Тургенева, провел "лучшие минуты своей поэтической жизни".
Вот как описывает Анна Петровна первое появление поэта в их доме: "Мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова, повторяющего беспрестанно: "Простите за откровенность" и "Я весьма дорожу вашим мнением", как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили..."
Особенно запомнился нашей землячке другой его приезд: "Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этой целью явился он в Тригорское со своею большою черною книгою, на полях которой были начертаны ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих Цыган (законченных осенью 1824 года в Михайловском. - В.В.). Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический..."
Анна Петровна и сама обладала прекрасным голосом. Больше всего поэту нравился в ее исполнении романс "Венецианская ночь" (на слова И.И. Козлова, который, кстати, перевел на английский язык пушкинский "Бахчисарайский фонтан"). "Скажи от меня Козлову, - просил Пушкин своего друга, поэта и критика П. Плетнева, - что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его "Венецианскую ночь" на голос гондольерского речитатива - я обещал известить о том милого вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задушевность - по крайней мере, дай бог ему ее слышать!.."

|
В конце письма выразительная приписка на итальянском языке: "Написано в присутствии самой особы, что для каждого должно быть ясно..." Ясно было и Михайловскому изгнаннику: переживаемое им чувство - скорее любовь, нежели сильное увлечение.
Плененный "красотой и задушевностью" уроженки города Орла, Александр Сергеевич чуть ли не ежедневно навещал Тригорское. Через несколько дней после памятного авторского чтения поэмы "Цыганы" тетя Анны Керн предложила всем после ужина совершить поездку в Ми-хайловское.
"Пушкин очень обрадовался этому, - вспоминала Анна Петровна, - и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей... Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад. "Приют задумчивых дриад" (строка из 1-й строфы второй главы "Евгения Онегина". - В.В.) с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать... Подробностей разговора нашего не помню: он вспоминал нашу первую встречу у Олениных..."
На следующий день, 19 июля, Керн уезжала из Тригорского в Ригу, к месту службы супруга. Пушкин пришел проститься и на прощание передал ей экземпляр первой главы "Евгения Онегина". В неразрезанных листках Анна Петровна обнаружила вчетверо сложенный почтовый лист бумаги с обращенными к ней стихами:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Впоследствии это пушкинское стихотворение М.И. Глинка переложил на музыку и свой романс посвятил старшей дочери Анны Петровны - Екатерине, в которую был сильно влюблен.
25 июля 1825 года Пушкин писал из Михайловского "гению чистой красоты": "Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных... Берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас..."
В 1828 году поэт вписал в альбом Керн несколько шуточных мадригалов, а в следующем году у нее дома написал стихотворение "Приметы". После женитьбы Пушкина Анна Петровна виделась с ним редко, хотя продолжала общаться с его родителями и сестрой.
Овдовев в 1841 году, она против воли отца вторично вышла замуж за своего троюродного брата. Переехав в Петербург, подружилась с литератором Н.Н. Тютчевым, у которого встречалась, в частности, со своими земляками Ф. Тютчевым и И. Тургеневым. 3 февраля 1864 года Иван Сергеевич из Петербурга извещал П. Виардо: "Вечер провел у некой г-жи Виноградской, в которую когда-то был влюблен Пушкин. Он посвятил ей несколько стихотворений, признанных одними из лучших в нашей литературе. В молодости, должно быть, она была очень хороша собой и теперь еще при всем своем добродушии сохранила повадки женщины, привыкшей нравиться. Письма, которые писал ей Пушкин, она хранит как святыню..."
Интересно, знал ли автор "Дворянского гнезда" о том, что орловские дома, где родились он и Керн, разделяют всего три квартала? На обороте подаренной ей фотографии Иван Сергеевич оставил автограф: "Анне Петровне Виноградской от И. Тургенева. С.-Петербург. 1864 г.".
В этом году в журнале "Семейные вечера" был помещен отрывок из ее "Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке", служащих продолжением опубликованных пять лет назад мемуаров о великом поэте. Известный его биограф П. Анненков так отозвался о литературном труде нашей землячки: "Только одна умная женская рука способна так тонко и превосходно набросать историю сношений, где чувство своего достоинства, вместе с желанием нравиться и даже сердечною привязанностью, отличается разными и всегда изящными чертами".
Последние годы Анны Петровны прошли в странствиях и постоянной нужде. Незадолго до своей кончины в 1879 году она решила вновь побывать в Тригорском и Михайловском. По дороге, весьма трудной для ее почтенного возраста, она заехала для отдыха к упомянутому выше псковскому помещику П. Рокотову, у которого тогда гостил популярнейший оперный певец Ф. Комиссаржевский, отец не менее прославленной актрисы.
По просьбе хозяина он решил дать концерт для его друзей и знакомых. Вот что писал об этом вечере корреспондент одной из столичных газет: "Певец был в ударе и покорил своим талантом все общество. Но очарование вечера портила какая-то старуха, неопрятно и даже грязно одетая, все время приставая к Комиссаржевскому с неуместными замечаниями... Старуха так надоела певцу, что он наконец шепотом спросил у хозяйки:
- Что это за старуха? Кто она такая?
- Да это же Анна Петровна Керн!
- Как? Та самая? -Да, та самая.
Раздражение Комиссаржевского мигом улетучилось, и он, подойдя к роялю, попросил, чтобы ему аккомпанировали "Я помню чудное мгновенье..."
Музыка Глинки, слова Пушкина и пение талантливого певца (у него был лирико-драматический тенор. - В.В.) сразу захватили присутствующих. Все затаили дыхание и слушали, как зачарованные. А Комиссаржевский, пропев последние слова романса: "И для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь", быстро подошел к старухе и благоговейно опустился на колени.
Анна Петровна разрыдалась и, схватив дрожащими руками голову певца, молча и бессчетно ее поцеловала. Это было так трогательно, что у зрителей невольно навернулись слезы. Как будто тень Пушкина пронеслась в этой комнате".
Дом, где увидела свет воспетая великим поэтом Анна Керн, не сохранился. На его месте возвышается здание гостиницы "Русь", боковой фасад которого отмечен мемориальной доской в честь нашей славной землячки.