

|
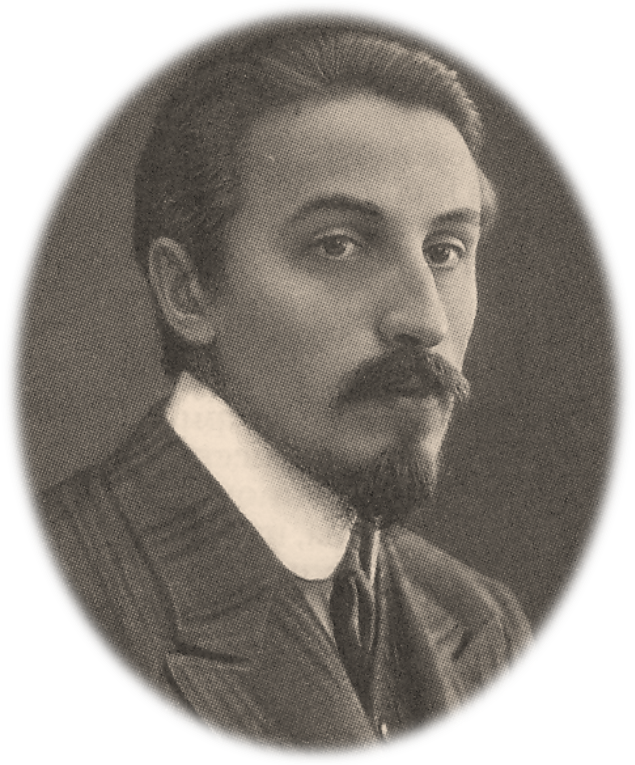
|
Победа Пушкина
Слух обо мне пройдет
По всей Руси великой.
...Пушкин же, Арион, так и остался лучезарным любимцем столетия.
Его как первую любовь
России сердце не забудет.
Тютчев
- именно не ожидая никаких "разрешений", просто любуясь им.
Любование, на минуту лишь затемненное в шестидесятых годах, к удивлению, выдержало и революцию. Пушкиным в современной России зачитываются, устраивают паломничества в Михайловское, ему поклоняются как величайшему писателю России несмотря на то, что он барин и аристократ. Значит же, не иссякло в России тяготение к красоте, поэзии, простоте, прямодушной жизненности и человечности! Подспудно еще, но начинает доходить пушкинское свободолюбие, пушкинская любовь к родной земле. Радостно нам это слышать - тем русским, для кого Пушкин есть знамя свободы, культуры духовной, любви к родине в высшем ее виде - не как презрения и отрицания чужого, но как гармонического сочетания разных цветов радуги, из которых свой, русский, ближе всех сердцу.
То, что Пушкин победил в той России, которой годами вколачивали противоположное, - есть великая наша надежда, победа нашего духа, в некоем смысле и наша победа. Теперь уже нельзя поворотить вспять. Кто любит Пушкина, тот за свободу. Кто с Пушкиным, тот за человека, родину и святыню. Если Пушкин завладевает сердцами России, значит, жива Россия.
Июнь 1937 г.
© Б.К.Зайцев, наследники, 1937, 1999
Памятник Пушкину
Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.
Трудно себе представить в точности, какой вид имел Тверской бульвар тридцатых годов прошлого века, когда Пушкин с женою жил на Арбате. Вероятно, место это было довольно нарядное. Светские дамы гуляли там, среди них Наталия Николаевна Пушкина "заметно блистала" красотою. Туда же водили детей в "Детстве и отрочестве". На нем трагическая Клара Милич назначила свидание Аратову.
Так что уж издавна связан он и с культурою, и с литературой России. А 6 июня 1880 года произошло тут и некое завершение: с великой торжественностью, при властях, знаменитых писателях, был открыт памятник Пушкину - в верхней части бульвара, где выходит он на Страстную площадь.
Удивителен подъем, с которым прошел этот праздник. Будто русские просвещенные люди того времени ощутили, что созрел Пушкин для духовного представительства России. Ушли шестидесятые годы с наивными попытками Пушкина развенчать ("...И в детской резвости колеблет твой треножник"). Споры умолкли. Солнце есть солнце. А пушкинское - одна чистая поэзия - в русских душах на празднестве преломилось и морально создало, после речи Достоевского, такой подъем, такой восторг, что незнакомые обнимались, дамы плакали, давались обеты "быть лучше" и т.п. - все во славу Пушкина ("...Что чувства добрые я лирой пробуждал"). На минуту Тургенев примирился с Достоевским. Одним словом, "Пушкин на Тверском бульваре" стал событием, целая литература воспоминаний, писем об этом выросла, вплоть до устных преданий - почтительно передаю и я слышанное от московской дамы, в юности на открытии присутствовавшей, заливавшейся слезами над Тургеневым, когда высоким своим тенором читал он "Последнюю тучу рассеянной бури", над Достоевским, речью своею всех потрясшим. Даже вспоминая, через много лет, не могла она скрыть волнения, точно это были особенные, светлые дни. "А по вечерам мы ходили к памятнику Пушкину, сидели вокруг, декламировали его стихи, иной раз за полночь... барышни, студенты".
С тех пор нельзя себе и представить Тверского бульвара без памятника Пушкину. Каков бы ни был скульптор Опекушин, Пушкин его спокоен, может быть, слишком меланхоличен, но есть в нем привлекательное, внушающее симпатию.
Пушкин Тверского бульвара стал безмолвным свидетелем жизни Москвы и России. Видел торжества коронации последнего русского императора. С японской войной вошел в наш век, а с ним и в нашу жизнь, людей Москвы моего поколения.
Но он не просто стоял. Его как-то и полюбили. Стал он отчасти свой, московский, обращался в гения местности, genius loci.
Со времен Наталии Николаевны и Клары Милич Тверской бульвар опростился, и много бродило по нем косыночек, а то и шляпок довольно-таки подозрительных. По воскресеньям вблизи кафе Греко играла военная музыка и народ собирался толпою - далекий уже от барства Толстого, Тургенева. Вдалеке же над всем неизменно стоял Александр Сергеевич Пушкин, на голову которого садились голуби. Дети играли у подножия памятника, бегали, покачивались на цепях между тумбами. Разносчики предлагали летучие цветные шары на веревочках. На скамейках вокруг - барышни, молодые люди: у "Пушкина" встречались влюбленные. Много и простонародья толклось вокруг. Дворник с кухаркой, держась за руку и прогуливаясь, по складам разбирали надпись: "Я па-мя-тник себе воз-двиг не-руко-твор-ный..."
Заезжие мужики из деревни вздыхали, покряхтывали. "Ишь ты, какого поставили! Стало быть, голова". Иногда живой Пушкин проходил мимо памятника - был в Москве такой литератор, вся, кажется, радость жизни которого в том заключалась, что он походил на Пушкина. Не помню, что он писал, где печатался, но знала его вся Москва. Он носил "пушкинскую" шляпу, плащ, завел подходящие бакенбарды, и хотя ростом был много выше Пушкина и брюнет, все же при взгляде на него Пушкин вспоминался неизменно. Он любил подходить к памятнику, прислонившись к скамейке, нога за ногу, изящно позировать пред монументом. А потом шел в небольшой ресторанчик "Моравия", тут же в проезде Страстного бульвара. Там собирались студенты, молодые писатели. В веселии Бахуса, выходя после возлияний, приветствовали и они "своего" Пушкина.
"Пушкин" стоял спокойно. Его не тронули бы ни восторги, ни ненависть. Он слышал, как у Страстного звонили к всенощной, видел, как по Тверской к "Яру" катили голубки, видел у своих ног и пьяных, и грубых, и на рассвете видал возвращения. Московские дамы с лихачей забегали в Страстной ставить свечку. Случалось и молодым энтузиастам, на весенней заре, после шумно проведенной ночи, снимать шляпы пред Пушкиным, спугивая утренних воробьев с его плеча. Пушкин врастал в жизнь Москвы, становился гражданской ее святыней.
В начале этого века первые пули просвистели над Москвой, первые толпы прошли по ее улицам. От Пушкина это было далеко. Но чрез несколько лет увидал он шедшие по Тверской к Брестскому вокзалу эшелоны - на войну. А потом назад везли раненых, размещали по особнякам вблизи, под знаком Красного Креста. Далее наступил день, когда валом уже повалили серые герои без ранений, возвращаясь с фронта. Весной и летом 1917 года являл памятник вид изумительный: всегдашняя густая толпа солдат в гимнастерках, пыль, пот, семечки, непрерывные ораторы, взлезавшие на постамент, поток речей. Россия косноязычная, долго молчавшая, вдруг заговорила голосом нечленораздельным, но ненасытным - не могла наговориться. Как раньше влюбленные назначали свидания "у Пушкина", так теперь все доморощенные Златоусты в солдатских фуражках влеклись к этому месту. Разумеется, с памятника можно было говорить, как с трибуны, над толпою господствуя, все же, может быть, фельдфебелей, фельдшеров, всех обиженных Епиходовых тех времен и особо стремило под сень Пушкина - того, чья речь (все-таки они это слышали!) почиталась священной.
Он стоял и молчал, все выслушивал, все потоки. Молчал и позже, в конце октября, когда сам бульвар обратился в поле сражения: вдоль него били из пулеметов, делали перебежки цепями, артиллерия рушила огромный дом Коробова, близ Никитской, далеко за спиною Пушкина. Артиллерия разнесла и тот дом, замыкавший бульвар, где годами ютилась знаменитая столовая Троицкой, скучноватый и недорогой приют интеллигентов бессемейных и студентов.
Кажется, пули не поцарапали памятника. Ни один снаряд в него не попал. Но когда бой закончился, началась новая жизнь Москвы.
Пушкин простоял на своем пьедестале все эти годы. Бородатые Марксы и Энгельсы, в одиночку и парами, возникали из гипса на разных перекрестках Москвы - гипс быстро таял под дождями и трескался от мороза. Их не то чтобы убирали... они сами как-то таяли, сметались с лица Москвы. Рядом с ними сносили и храмы. Тот Страстной монастырь, что видал и Тургенева, и Достоевского у подножия памятника Пушкину, - уничтожили. О самом Пушкине, жившем в "заветной лире", писали и говорили, что он представитель барства, крепостничества. Памятника, однако же, не разрушили. Кто его охранял? Жизнь, судьба? Может быть. Как над толпой был при жизни сам Пушкин, так над нею остался. Кровь, свирепость, безумие видел со своего пьедестала. Но мог ли склониться? Тот, кто сказал: "Хвалу и клевету приемли равнодушно"?
Пушкин стоял неизменно над Страстным бульваром ( Конечно, речь идет о Тверском бульваре). Спокойный, задумчивый, когда громили святыню России. Что же, выстоял! Достоял до столетнего своего юбилея, но пока стоял, сколь глубокие, хотя и подводные, изменения произошли в окружающем! Сколько Россия пережила! Сколько переболела! В скольком разочаровалась! Но загадочными судьбами не иссяк живой дух в народе. Уж чего-чего не долбили ему в эти двадцать лет! Полюбил ли он Маркса? Нет - Пушкина. Наперекор всему - барина, аристократа, автора "Черни".
Подите прочь! - Какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Но пришли. Тысячами, толпами, паломниками в Михайловское на сотнях телег, сотнями тысяч читателей "устарелых" строф представителя "чистого" искусства. Правда, "народа" Пушкин никогда не отрекался. Напротив, при всей моцартовско-рафаэлической залетности своей чудесным образом с народом был он связан. Все же величайший аристократ в искусстве! Но - победил сейчас в сердцах. Какое утешение нам, здешним! Если берет верх искусство, дух свободы, дух Божий, хотя бы пока и подспудно, то кой для кого страшные слова, библейские и вавилонские, начертаны на стене. Рухнуть той стене, и ошибся кое-кто, не взорвав своевременно памятника и не сжегши заранее всех "сладкозвучных строф". А теперь поздно. Жизнь назад не идет. И увидим ли мы вновь Тверской бульвар в зеленоватом дыму апреля, в распускающихся липах с памятником Пушкину и влюбленной парой вблизи на скамейке, или не увидим, все равно - пушкинского в России остановить нельзя! Когда в этом, наступающем юбилее, к подножию памятника вновь положат венки - не Достоевский (он еще в цепях) и не Тургенев, а другие, нам неведомые, но уже чем-то родные, эти венки будут венками будущего, коренящегося в вечном и прекрасном прошлом.
1937
© Б.К.Зайцев, наследники, 1937, 1999
Три кометы
(Слово на Пушкинском вечере)
Шестнадцатый век, восемнадцатый, девятнадцатый. Три века, три в них кометы, неизвестно откуда взявшихся, в Вечность унесшихся. Кометы живописи, музыки, поэзии. Рафаэль, Моцарт, Пушкин - наш Пушкин, русский, мы и собрались сегодня поклониться третьей этой комете: сто двадцать пять лет тому назад Пушкин скончался.
Общая и бесспорная всех троих черта: залетность. И почти одинаковая длина жизни - краткой! Моцарт - тридцать пять лет. Рафаэль - тридцать семь, Пушкин
- тридцать восемь. Есть обшее и в трагичности судеб, но у каждого свой оттенок. Есть общее и в художестве, но каждый - особенный, неповторимый.
Рафаэль молод - казалось бы, вечно молод, старым его не видишь: блестящ, красив, знаменит. Его любят папы и кардиналы, дамы знатные и простые трастеверинки. Богат, мирен, мягкого нрава. Воздушно мягки, нежны и творения его. Будто все ему улыбается, весь мир приветствует, и под всем этим... "Но помни, смертный..." Да, внезапно, какая-то болотная лихорадка - голос рока. Несколько дней - и нет его. Улетел туда же, откуда явился. Только прах в Пантеоне римском. "Но помни, смертный..."
На рю Франсуа Мирон в Париже есть старинный дом, на стене внутреннего двора барельеф - изображен Моцарт. В этом доме жил он мальчиком, уже давал концерты. Так нечто инфантильно-божественное и в музыке его сохранилось. Какой-то вечно-священный младенец, сходят к нему райские звуки, столь же невесомые, как фигуры апостолов и мудрецов в "Афинской школе" Рафаэля (Ватикан). Но младенец этот вовсе не так беззаботно блестящ, как Рафаэль. Напротив, болезнен. Туберкулез снедает его, жизнь нелегка, никакого блистания Рафаэлева, тесно с деньгами, тяжко с женой, сильно его угрызающей. И тоже безвременная кончина и воистину трагические похороны: холод, метель, и один-единственный человек за гробом, да и тот не дошел до могилы, так выла метель. Гения похоронили одни могильщики.
Наконец, тот, кто вот вызвал на мгновение великие тени. Вот и наш Пушкин, тоже тайком похороненный в дальнем монастыре, - один Александр Тургенев провожал его! Тоже рано, еще отроком прогремел в Лицее, двадцатилетним юношей прославился ("Руслан и Людмила"), все время шел потом в гору как художник, при колебаниях славы, но все же быстро обогнал современников - Жуковского в том числе, Баратынского и других меньших. Как Моцарт, Рафаэль, тоже как бы с неба свалился, слил в себе Запад и его культуру с извечно русским, с некоей Ариной Родионовной символической и создал целую новую литературу, открыл собой блистательный XIX век нашей словесности - этот век сравнит позже Поль Валери с золотым веком Греции и Итальянским Возрождением, и все летя, летя. В Пушкине есть полет, это не гётевская мерная поступь - о, тот чувствовал, что его путь долог, он кометой не был, а у Пушкина как бы предчувствие краткости - он был упорный и "взыскательный" художник, не баловался своим изумительным инструментом, выверял, менял, вычеркивал, - но был всегда в полете.
Очень многим отличался от двух других комет. При всей воздушности и легкости стиха был внутренне драматической натурой, опьяняли его страсти. Он был очарователен по уму, открытости душевной, блеску всегосущества, но в нем сидели и семена будущей гибели. Не вижу ни Рафаэля, ни Моцарта на дуэлях - и не по одному тому, что другие времена были: сами они другие натуры. Представить себе Моцарта, вызывающего на дуэль! Рафаэль тоже не подходил для такого дела. А Пушкин не однажды вызывал сам... - вплоть до последней своей дуэли... Вообще трагическое сильней чувствовал Пушкин и был мужественнее, чем Рафаэль и Моцарт. Моцарт был верующим католиком, Рафаэль и Пушкин - полуязычники, полухристиане. (Пушкин в юности написал "Гавриилиаду", но предсмертная его исповедь потрясла самого священника.) Рафаэль как бы замыкал собой Возрождение, Пушкин открывал великий век. И удивительно: век христианнейшей литературы открыл поэт как будто аполлиническо-языческого склада. Но вот был в нем яд, отравлявший его язычество. Язычество не знало покаяния, а Пушкин знал.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
(Толстой считал это замечательнейшим произведением. Но полагал, что для себя лично должен сказать: "...строк позорных"). Не за это ли так возлюбил Пушкина и Достоевский? Всеотзывность, всеотзывность... - отлично, но вряд ли за это можно так преклониться Достоевскому. А вот что "...милость к падшим призывал" - это уж опора и как бы даже заповедь для Достоевского. Это его мир. Но что вместилось это в таком полуафриканском, полуфранцузском (по культуре), а в конце концов великорусском Пушкине - загадка.
Загадкой остался он и для иностранцев. "Почему русские так превозносят этого поэта? В нем совсем нет "восточного", ame slave , как в Достоевском и Толстом? Для нас он что-то как бы известное уже, не экзотическое".
Тут, кажется мне, две причины: зерна того, что произросло позже в других великих наших писателях, были, конечно, в Пушкине. Все же главное в нем - чистое художество, творение ради творения. И удивительный инструмент. Но чтобы оценить это, надо, во-первых, по настоящему воспринимать чистое искусство, второе - надо знать русский язык. Тут Рафаэлю, Моцарту больше "повезло". Их язык всемирен. Глаз и слух - для всех. Все могут в подлиннике оценить и живопись и музыку, в подлиннике ее воспринять. Пушкина надо переводить. Его много переводили и переводят. Есть отличные переводы (на итальянский - Ло Гатто и Вячеслава Иванова "Евгения Онегина"), - но прелесть пушкинского стиха невозможно дать на чужом языке.
Рафаэль и Моцарт - для всего мира. Пушкин - главнейше для русских. Или для иностранцев, вошедших в стихию русского языка (Ло Гатто, например).
Но тем более мы, русские, должны держаться за свою славу, за своего гения. Так оно и получается. Кажется, никого из писателей наших не любили в России так безоговорочно, чисто, светло, как Пушкина.
Этот гость, залетевший к нам, повернувший всю нашу литературу, так и остался - более чем на столетие - некиим сияющим столпом, ведущим за собой Россию.
Апрель 1962 г.
© Б.К.Зайцев, наследники, 1962, 1999